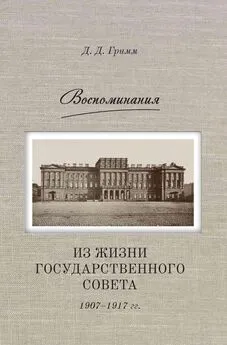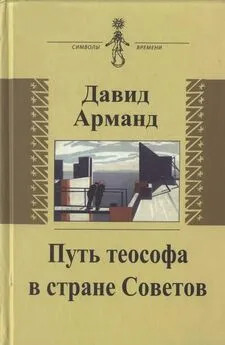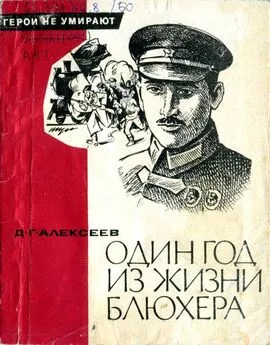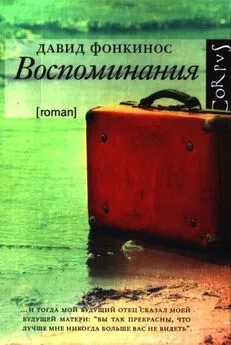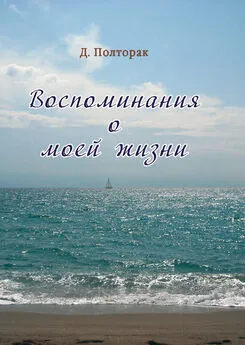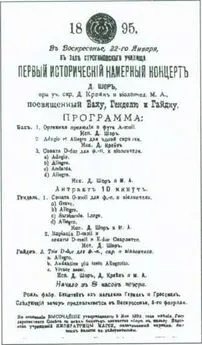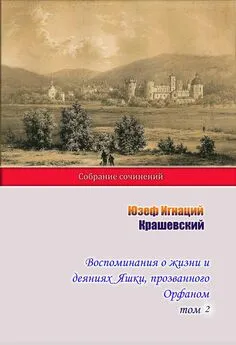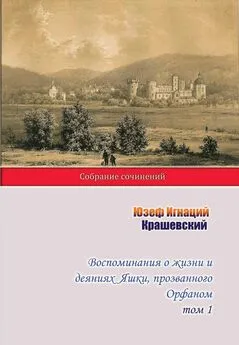Давид Гримм - Воспоминания. Из жизни Государственного совета 1907–1917 гг.
- Название:Воспоминания. Из жизни Государственного совета 1907–1917 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нестор-История
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4469-1198-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Гримм - Воспоминания. Из жизни Государственного совета 1907–1917 гг. краткое содержание
Воспоминания. Из жизни Государственного совета 1907–1917 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Тогда я решил обратиться к гр[афу] Коковцову, чтобы заблаговременно информировать его об истинном положении дела. Я составил меморандум, в котором подробно изложил всю историю вопроса, и попросил графа, при встрече с ним в Государственном совете, не отказать выслушать меня. Он сейчас же назначил мне день, когда он может принять меня у себя. Явившись к нему, я вручил ему заранее заготовленный меморандум и подробно обрисовал ему все перипетии дела, положение его в данный момент и основания, по которым, несмотря на все, возможность неутверждения избранных кандидатов не представляется мне исключенной.
Граф очень внимательно выслушал меня, поблагодарил за подробную и своевременную информацию и заявил, что он обратит особое внимание на дальнейшее движение дела.
Однако и гр[афу] Коковцову не удалось обуздать Кассо. Кончилось тем, что профессоры Тарановский и Гордон не были утверждены, а вместо них были назначены г.г. Грибовский и Никонов, которые полностью оправдали доверие своего начальства. В этом никто, знавший их, никогда и не мог сомневаться.
Что касается остальных председателей Совета министров, быстро уступавших друг другу место, то ни с кем из них мне лично не пришлось иметь дело.
Часть вторая
Эволюция психологии Государственного совета
XIV. Общие предпосылки
Самым любопытным и поучительным процессом, который мне пришлось наблюдать в жизни преобразованного Государственного совета, я считаю постепенную внутреннюю метаморфозу этого учреждения, постепенное изменение психологии его. Вскользь об этом мне неоднократно приходилось уже упоминать. В настоящем очерке я попытаюсь представить более связную картину этого процесса, отметить общие предпосылки, главные этапы развития и общий внутренний смысл его. Да простит мне читатель, если при этом нельзя будет обойтись без некоторых повторений сказанного раньше.
Упомянутый процесс отнюдь не был чем-то случайным, мимолетным, лишенным сколько-нибудь серьезного интереса и значения. Для историка и социолога внутренние перемены в общественной среде играли не меньшую роль, чем внешние результаты, к которым они привели. Трагическое сцепление обстоятельств, доведших Россию до нынешнего ее состояния анабиоза, оборвало этот процесс, оно пресекло выявление осязаемых для постороннего глаза плодов его. Мало того, оно помешало ему дозреть до логического конца его. Но общая значимость процесса этим не умаляется.
По существу своему настоящий процесс являлся частным отражением более общего процесса, охватившего и втянувшего в свою орбиту как власть, так и всю русскую общественность, которой так или иначе успел коснуться новый представительный строй.
Всякий государственный строй характеризуется известными специфическими отношениями, устанавливающимися между властью и обществом и между отдельными органами власти — законодательными, исполнительными и судебными. Эти отношения воплощаются в определенных координированных системах действий. Благодаря повторности таких действий представление о них соединяется в нашем субъективном сознании с определенными оценочными о них суждениями. Последние в свою очередь ассоциируются с определенными эмоциями и волевыми импульсами: то, что стало для нас привычным, с чем мы успели связать наше поведение, наши интересы, зачастую и нашу политическую идеологию, начинает восприниматься нами не только как простой факт, но и как нечто должное. Этим, в практическом результате, создаются субъективные стимулы к совершению одних и к воздержанию от других действий. Словом, происходит то, что современная социология и теория права характеризуют как нормативную силу факта.
Новый строй ввел целый ряд коренных изменений в существовавшие до этого отношения между обществом и властью и видоизменил вместе с тем структуру и взаимоотношения между отдельными органами власти. Это не могло не отразиться на внутренней стороне соответствующих отношений, на индивидуальной и массовой психологии затронутых преобразованием государственного строя кругов как властвующих, так и подвластных.
Этот процесс, естественно, захватил и Государственный совет. Изменился личный состав его благодаря привлечению выборного элемента. Изменился и политический вес его благодаря превращению его из чисто законосовещательного органа в один из трех органов законодательной власти. Вместе с тем изменились взаимоотношения между ним и высшими органами исполнительной власти — монархом и Советом министров.
В связи с этим начинает зарождаться новая психология, которую, в противоположность старой бюрократической психологии, можно охарактеризовать как психологию гражданственности. Последняя постепенно, по мере укрепления ее, все чаще начинает прорываться наружу и определять поведение Государственного совета в целом.
В чем заключалась суть этой новой психологии?
Было бы совершенно ошибочно сводить противоположение между нею и прежней психологией Государственного совета к противоположению прогрессивного и реакционного направления, прогрессивных и реакционных политических идеалов. Последнее противоположение не было чуждо Государственному совету и в период неограниченного самодержавия. И в то время в составе Совета встречались, наряду с чисто реакционными элементами, также элементы прогрессивные, точные, умеренно либеральные, которые временами играли довольно видную роль. Однако и либеральные сановники, заседавшие в Государственном совете, оставались бюрократами с чисто бюрократической психологией. Никакой другой психологии и не могло создаться при строго бюрократическом составе и чисто законосовещательном характере дореформенного Государственного совета. Самая борьба, которую либеральные элементы в составе Совета того времени вели с реакционными элементами его, была не настоящей политической борьбой, а походила скорее на бурю в стакане воды. Ведь решающее значение имело не то или иное политическое течение как таковое, а переменчивая и неучтимая, лишь наугад уловляемая воля самодержца.
Нельзя не вспомнить по этому поводу столь характерной для того времени своеобразной практики Государственной канцелярии, которой она держалась при составлении промеморий [247], содержавших изложение мнений большинства и меньшинства Государственного совета по вопросам, вызвавшим в Совете разногласие. Эти промемории представлялись на благоусмотрение государя. Техника составления означенных промеморий сводилась к тому, чтобы число доводов pro и contra по данному вопросу, независимо от того, были ли они высказаны большинством или меньшинством, было примерно одинаковое; при этом следили за тем, чтобы те и другие доводы были бы изложены в такой форме, чтобы они с внешней стороны производили равносильное впечатление и в этом смысле не связывали бы государя. Нечего говорить, что составление подобных промеморий требовало особого искусства и особых искусников, которые на этом делали карьеру. Упомянутые хитроумные приемы бюрократической стилизации являлись венцом всей той бюрократической батрахомюомахии [248], всей той войны бюрократических лягушек с бюрократическими мышами, которой исчерпывался, по существу, весь круговорот жизни дореформенного Государственного совета.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: