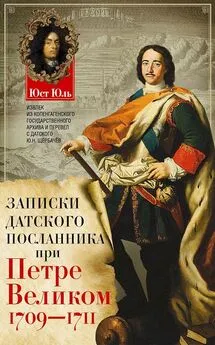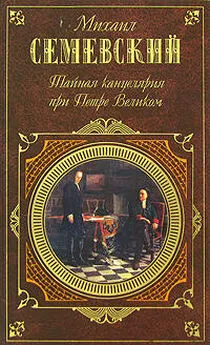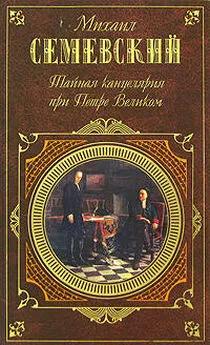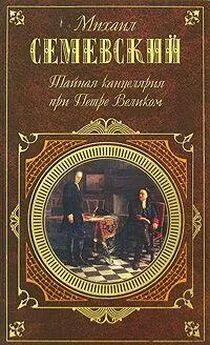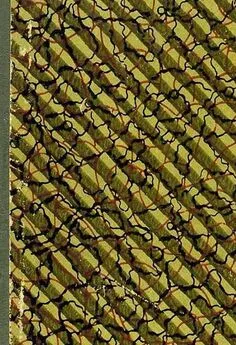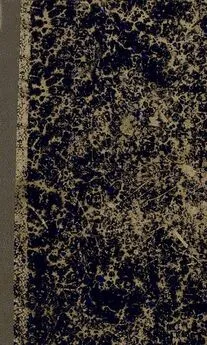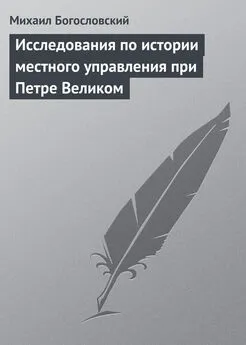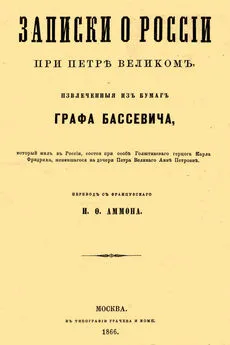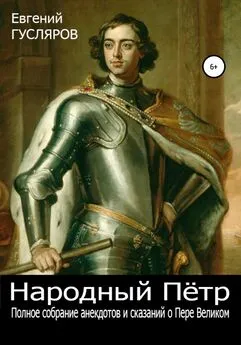Юст Юль - Записки датского посланника при Петре Великом, 1709–1711
- Название:Записки датского посланника при Петре Великом, 1709–1711
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-09193-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юст Юль - Записки датского посланника при Петре Великом, 1709–1711 краткое содержание
Отважный моряк, умный дипломат, вице-адмирал Юст Юль оставил замечательные дневниковые записи своего пребывания в России. Это — тщательные записки современника, участника событий. Наблюдательность, заинтересованность в деталях жизни русского народа, внимание к подробностям быта, в особенности к ритуалам светским и церковным, техническим, экономическим, отличает записки датчанина. Так же как и их эмоциональность, оживляющая историю, — в некоторых эпизодах Юль показывает как силу, так и слабость русского императора, ужасается пьяному варварству тогдашнего царского двора, но и восхищается умом, находчивостью и… хитростью Петра. То же относится к оценкам других исторических фигур, как русских, так и зарубежных.
Записки эти — чтение не простое, но весьма увлекательное. Рукопись была восстановлена и переведена замечательным дипломатом и историком Юрием Щербачёвым в далеком 1899-м году, но представляет большой интерес для любителей истории и сегодня.
Записки датского посланника при Петре Великом, 1709–1711 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
26-го. В этот день я встретил в городе старуху с настоящей с лишком в ¼ алена бородой, совсем как (у) пожилого русского или датского мужика. Так как подобное явление было для меня необычно, то я вышел из повозки и лично вступил с этой женщиной в разговор.
Мной из любознательности собраны следующие подробные (сведения) об устройстве и положении большой московской так называемой Патриаршей школы или гимназии. Школа эта построена возле одного монастыря, в которой допускаются только православные монахи польского происхождения. Архимандрит или игумен этого монастыря, Феофилакт Лопатинский [346], состоит (в то же время) ректором гимназии. В его ведении находится 17 (учеников), которым он преподает богословие. Получает он от царя 300 рублей ежегодного жалованья. Субректор, professor philosophiae Joakim Bogomodlewskij, (старшее) после Лопатинского (лицо), преподает философию, имеет в своем ведении 16 (учеников) [347]. Затем следуют: Иоасаф Томилович, профессор риторики и префект по другим менее важным (предметам), имеет в своем ведении 15 (учеников) [348]; профессор этики Гавриил Теодорович ведает 10 учениками [349]; профессор синтаксии Феодосий Turkievitz ведает 21 (учеником) [350]; учитель грамматики Инокентий Кульчицкий ведает 20 (учениками) [351]; magister infimae grammatices, anologiae et lingvae germanicae, Феофил Кролик ведает 84 (учениками) [352]; professor Lychudes, didaschalus lingvae graecae, graecus oriundus ex insula Cephalonia, ведает 8 (учениками) [353]. Кроме того, (при школе) находятся двое проповедников: Степан Прибылович и Barnabus Wolostwskij [354]. Каждый из этих профессоров и преподавателей получает от царя по 150 рублей в год, каковое жалованье аккуратно производится им из (Печатного) приказа; ученики получают на содержание по 3 копейки в день каждый; впрочем, ученики двух старших классов, а именно theologiae et philosophiae studiosi, получают ежегодно по 4 копейки. Архимандрит (Лопатинский) говорит, что если б первые основатели (школы) живо приняли (к сердцу) ее процветание, благосостояние и развитие, то им нетрудно было бы достигнуть того, что ученики получали бы ежедневно втрое больше (теперешнего), что, несомненно, (в) значительной (степени) увеличило бы наплыв учеников.
Кроме описанной (Патриаршей) школы, учрежденной нынешним царем, он основал в Москве еще одну школу с 10 иностранными преподавателями — немцами, шведами, французами и итальянцами, (и) под надзором ректора, (а) именно германского уроженца Бедлова [355]. Но так как профессора Патриаршей школы из зависти постоянно ненавидели их, то теперь (дело) дошло наконец до того, что ректор и большинство учителей (сказанного заведения) отставлены, за исключением (четырех) учителей, (а именно) преподаваемой немецкого, латинского, шведского и итальянского (языков), — и таким образом школа эта (в настоящее время) почти упразднена.
В Москве царь учредил также школу математики [356], но она тоже пуста, и учителя (ее) разбрелись в разные стороны.
Достойно примечания еще одно обстоятельство: как ни склонны русские к воровству, и (как они) ни падки на чужое добро, тем не менее, судя по тому, что рассказывали и утверждали мне в России люди, убедившиеся в этом из долгого опыта, русские редко проникают в (помещение), дверь или иной затвор которого опечатаны восковой печатью; а между тем самые крепкие замки и болты не могут противостоять их воровским пальцам.
28-го. Ввиду предстоящего путешествия я объездил своих добрых приятелей, чтобы проститься с ними.
Тут кстати будет заметить, что в Москве люди, которым дозволяет состояние, всегда ездят шестериком; впереди едут верхом 4–6 человек (прислуги), частью затем, чтобы прочищать дорогу сквозь народ, которого по улицам (толпится) великое множество, частью в предохранение от нападения уличных разбойников.
В России повсюду в обычае, чтобы повозки и сани, встречаясь друг с другом, разъезжались, держась правой стороны. Это хорошая мера и, хотя (ежедневно в Москве) встречаются (между собой) тысячи саней и повозок, тем не менее, благодаря ей, о каких-либо повреждениях (при столкновениях) между ними или о том, чтобы кто-либо кого-нибудь переехал, слышишь редко.
В Москве каменной мостовой нигде нет: середина больших улиц вымощена одними бревнами, вследствие чего при больших пожарах самые улицы горят так же хорошо, как и дома.
29-го. Выше я сказал, по какой причине и должен был остаться в Москве после отъезда царя, (а) именно: (остался я) ввиду обещания царских министров написать мне из Польши, где я буду (иметь возможность) застать царя. 2 мая я получил от великого канцлера Головкина из Польши письмо, помеченное Луцком, от 24 апреля, (в котором он предлагал) мне ехать в Киев, где будут приняты меры для дальнейшего моего (путешествия). Ввиду (этого письма) я было собрался в путь, но болезнь помешала мне уехать тотчас же. К тому же пришлось долго хлопотать в Посольском приказе о необходимых для моего путешествия подорожных и лошадях. Когда в конце концов, после долгой беготни, я их добыл, то в этот же день выехал, во имя Господне, из Москвы. В дорогу мне было назначено для моей безопасности 12 солдат и пристав. Везли меня царские ямщики, обязанные для царской надобности (гонять) во всякое время. (Мой) пристав, капитан-поручик Яков Андреевич Беклемишев, платил ямщикам прогоны, выданные ему из приказа.
Сделав 15 верст, я вечером того же (дня) достиг деревни Теплые Станы, где ночевал в поле.
30-го. (Проехав) 10 верст, прибыл в деревню Мостовая на реке Десне (Devioka?). Переезжать через реку было весьма опасно, так как мост (через нее пришел) в крайнее разрушение и непрочен. (Сделав еще) 15 верст, достиг деревни Пахра (Ргосга) [357]на реке того же имени. Покормив там немного лошадей, я в тот же день проехал еще 25 верст до деревеньки Тарутино (Darukina), расположенной на берегу большой реки — Нары. Здесь я заночевал.
Со мной были собственные заводные лошади, (которыми я предполагал) пользоваться за пределами России. Здесь же я их берег, так как в силу заключенного договора, пока я не выехал за границу, я пользовался даровыми лошадьми. (Но доставать) корм для моих лошадей стоило (мне) большого труда, так как (дело) было весной, и многочисленные приезжие, (проследовавшие) через (этот) край до меня, (успели) съесть и потребить все, (что было на пути).
31-го. Троицын день, отдыхал я здесь за полдень. У самого того места, где я разбил под открытым небом свои палатки, находилась русская церковь; тут происходило служение. По случаю праздника, согласно обычаю, соблюдаемому в этот день у русских, священник роздал всем (бывшим) в церкви, как мужчинам, так и женщинам, пучки зеленой листвы. Пучки эти раздавались всей пастве в ознаменование (того), что она должна утирать ими слезы, которые проливала за свои грехи; и так как в этот день священник троекратно читал особую молитву об отпущения грехов, то он вместе со всем народом опускался во (время этой) молитвы на колени; все поникали головой и держали перед (глазами) вышеупомянутые пучки. По окончании обедни, в полдень, девушки, увенчанные зелеными венками, распевая (песни), сошлись с обоих концов села на мост, ведущий через Нару. (Отсюда), с криком и гиканьем, они побросали свои венки в реку (и) затем в том же порядке и (с теми же) песнями пошли обратно (в село). (В ответ) на мои вопросы мне объяснили, что крестьянские девушки делают это из суеверия, всякое воскресенье, пока есть зелень, чтобы узнать, которая из них первая заболеет, умрет или в других отношениях будет несчастна. (Бедствие) должно постигнуть ту, чей венок первый погрузится в воду.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: