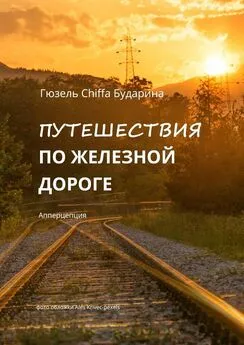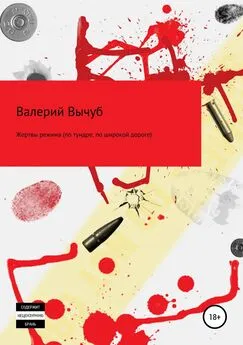Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Название:По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни!
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-230-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! краткое содержание
Так, в книге дана подробная история побегов из мест заключения — от дореволюционной каторги до ГУЛАГа; описаны особенности устройства тюрем в царской и советской России; подробно разобраны детали «блатной моды», повлиявшей и на моду «гражданскую». Расшифровка выражения «арапа заправлять» свяжет, казалось бы, несовместимые криминальные «специальности» фальшивомонетчика и карточного шулера, а с милым словом «медвежонок» станет ассоциироваться не только сын или дочь медведя, но и массивный банковский сейф…
По тундре, по железной дороге: И вновь звучат блатные песни! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Между тем зима 1924/25 гг. в Ленинграде была аномально тёплой — в эту зиму не замерзла даже Нева! Средняя температура января 1925-го составляла всего +0,5 °C. Более того, в течение 14 дней средняя суточная температура января держалась выше 0 °C, а в один из дней вообще достигала +5 °C. Словом, в такую погоду вполне можно обойтись без укрывания ног. Да и использование саней в слякотную питерскую погоду едва ли эффективно.
А вот январь 1924-го, напротив, выдался морозным. Как раз начиная с 17-го января температура устойчиво пошла на понижение — с -6.1 °C до -28.9 °C (26-го числа). Таким образом, мы склонны предположить, что ограбление, ежели таковое имело место быть, случилось именно в январе 1924 года…
Следующая немаловажная речевая характеристика — “снежная пыль”, в которой “терялись” отъехавшие сани с извозчиком. В литературе “снежная пыль” — устойчивое образное словосочетание, означающее “снегопад”. Судя по всему, в ночь ограбления шёл снег. Согласно архивным данным Метеобюро, 17–18 января 1924 года осадков в Петрограде не наблюдалось. А вот в следующие четыре дня мело, и весьма существенно (самый сильный снегопад пришёлся на 21-е число — тогда выпало сразу 8.9 мм осадков!). Затем, вплоть до 28-го января, снегопадов снова отмечено не было.
Таким образом, наша временная выборка ещё больше сужается, сокращаясь до периода 19–22 января 1924 года. К слову, учитывая, что вечером “аномально-снежного” 21 числа пришло известие о кончине Владимира Ильича Ленина, именно ночь с 21 на 22 представляется нам идеальным временем для совершения преступления. Ибо горожане, включая представителей органов охраны правопорядка, в подавляющей массе своей пребывали в глубоком эмоциональном шоке и в скорбном трауре. Кому какое дело нынче до содержимого чужих банковских сейфов, когда… ИЛЬИЧ УМЕР!»
Блистательно и остроумно! Правда, с реальностью эти выкладки ничего общего не имеют, но всё равно замечательна эта игра ума.
Путешествие из Азова в Петербург
Но почему же автор настоящего очерка вдруг безапелляционно заявляет, что выводы вполне серьёзного, добросовестного исследователя Игоря Шушарина неосновательны? Есть ли для такой критики весомые аргументы? Конечно, есть, дражайший читатель. И ещё какие весомые.
Напомню, что в своих изысканиях питерский исследователь исходит из того, что первая известная нам запись песни, о которой идёт речь, относится к 1926 году. И это действительно так. Более того, добавлю: запись эта была обнаружена именно Игорем Шушариным. Речь идёт о сборнике «В Петрограде я родился… Песни воров, арестантов, громил, душегубов, бандитов из собрания О. Цеховницера. 1923–1926 гг.». Именно этот текст мы воспроизводим в настоящем очерке, хотя к настоящему времени, повторимся, количество различных перепевов, переделок, редакций воровской баллады об ограблении банка существует великое множество.
Немного об авторе сборника. Орест Вениаминович Цеховницер (1899–1941) — известный советский литературовед и театровед, в 1936–1937 гг. — учёный секретарь Пушкинского Дома, публикатор и исследователь литературного наследия Владимира Одоевского, Фёдора Достоевского, Фёдора Сологуба, знаток русского народного театра и массовых празднеств. Увы, имя это сегодня вспоминается нечасто, а уж о сборнике «низового» фольклора, выпущенном Цеховницером в Ленинграде, не упоминалось до последнего времени вовсе — пока питерское издательство «Красный матрос» в 2013 году (в котором работает Игорь Шушарин) не выпустило репринтное издание этой книги, за что ему земной поклон.
А теперь — главное. В сборнике Цеховницера воровская баллада проходит вовсе не как «Медвежонок». Она называется… «Ограбление Азовского банка»!
Это обстоятельство очень важно. То есть именно так называли песню её носители. Совершенно исключено, чтобы столь щепетильный и добросовестный филолог, как Цеховницер, вдруг с бухты-барахты прилепил к балладе столь необычное название. Тогда возникает вопрос: при каких делах тут далёкий от Питера Азов и его банк? Может, уголовные барды северной столицы просто изменили место действия уже известной песни и на скорую руку пристрочили его к Ленинграду? И искать надо вообще в другом направлении — ближе к Азовскому морю?
Не будем торопиться. Потому что упоминание именно Азовского банка вкупе со столицей совсем уж накрепко привязывает песню к Северной Пальмире.
Начнём с того, что ни до революции, ни после неё никакого «чисто Азовского» банка в городе Азове не было. Несмотря на свою древность (первое письменное упоминание о золотоордынском городе Азак-Тана относится к 1269 году) и великую историю (достаточно вспомнить об «азовском сидении» донских казаков 1641–1642 годов и об Азовских походах Петра I), к началу XX века Азов как город не существовал вообще. Ещё в марте 1810 года он получил всего лишь статус посада Ростовского уезда Екатеринославской губернии — по нынешним меркам, «посёлок городского типа». В 1885 году здесь насчитывалось всего 16 600 жителей, к 1913 году — 26 500 жителей. Даже в 1926 году, когда Азов всё-таки получил статус города, здесь обитали всего лишь 25 тысяч человек. Конечно, даже в посадах имперской России банки всё-таки действовали. Скажем, Нальчик тоже имел статус посада, однако к 1910 году на его территории расположились несколько банков. Точнее, это были отделения банков, что не меняет сути дела, поскольку такие же отделения разных банков существовали и в крупных городах (скажем, Волжско-Камский банк в Ростове-на-Дону). Отделения «чужих» банков действовали, разумеется, и в Азове. Но вот своего собственного, Азовского — не было.
Однако в конце XIX — начале XX вв. в империи действовали Азовско-Донской коммерческий банк и Петербургско-Азовский банк. Оба они объединены фигурой банкира и коммерсанта Якова Соломоновича Полякова, старшего из трёх братьев Поляковых (двое других — Самуил и Лазарь) — миллионеров, благотворителей, мошенников и прощелыг. Все эти персонажи заслуживают отдельных рассказов, но нам в рамках нашей темы особо интересна личность старшего брата — того самого, которого Лев Толстой вывел в романе «Анна Каренина» под фамилией еврейского нувориша Болгаринова. Помните, Стива Облонский добивался у него аудиенции, чтобы выпросить хорошую должность, и отметился каламбуром: «Было дело до жида, и я дожидался». Яков Поляков являлся вместе со своим братом Самуилом одним из учредителей Азовско-Донского коммерческого банка, который возник в 1871 году в Таганроге и благополучно дотянул до 1917 года, считаясь одним из солидных коммерческих учреждений.
Несколько иная история — с Петербургско-Азовским банком. Дело в том, что курс иностранной валюты в то время определялся Санкт-Петербургской биржей. Азовско-Донскому банку приходилось прибегать к посредничеству столичных банков для сбыта иностранных векселей, покупки и продажи процентных бумаг, переводных операций. За такое посредничество приходилось платить, и платить немало. Посему Яков Поляков стал хлопотать о том, чтобы открыть в Петербурге отделение Азовско-Донского банка. Однако Министерство финансов для посреднических операций с Азовско-Донским банком предложило создать не отделение, а совершенно новый банк. Что и было сделано в 1886 году.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: