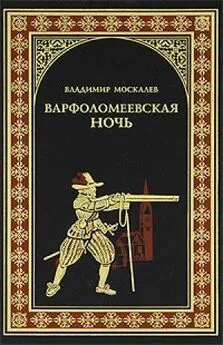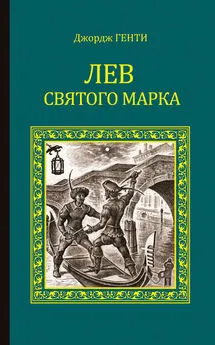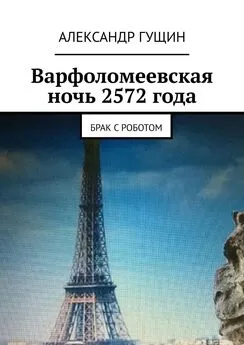Павел Уваров - Варфоломеевская ночь: событие и споры
- Название:Варфоломеевская ночь: событие и споры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РГГУ
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-7281-0316-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Уваров - Варфоломеевская ночь: событие и споры краткое содержание
Каждая эпоха отвечает на этот вопрос по-своему. Насколько сейчас нас могут устроить ответы, предложенные Дюма или Мериме? В книге представлены мнения ведущих отечественных и зарубежных специалистов, среди которых есть как сторонники применения достижений исторической антропологии, микроистории, психоанализа, так и историки, чьи исследования остаются в рамках традиционных методологий.
Одни видят в Варфоломеевской ночи результат сложной политической интриги, другие — мощный социальный конфликт, третьи — столкновение идей, мифов и политических метафор. События дают возможность поставить своеобразный эксперимент, когда не в форме абстрактных «споров о методологии», а на конкретном примере оценивается существо различных школ и исследовательских методов современной исторической науки.
Для специалистов, преподавателей, студентов и всех интересующихся историей.
Варфоломеевская ночь: событие и споры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не менее любопытна трактовка деятельности парижского населения; Отман сужает социальную базу — в резне участвуют только чернь, деклассированные элементы: "крючники, народные низы, кучка негодяев", с одним единственным побуждением — резать и грабить [346]. Отман рисует жуткие картины: чернь, воспламененная грабежом и насилиями, держа в окровавленных руках оружие, не прекращает воровство и резню, не щадя ни старцев, ни женщин, ни детей [347]. Вслед за резней следовал грабеж, и "400 домов было разграблено". То есть идейно-политическое значение и цели католиков благодаря подобному мотиву резко снижаются, активность деклассированных элементов позволяет автору сделать вывод: "Убивать людей, лишать их жизни без суда и причин — дело разбойников" [348]. Но ему приходится оценить и позицию власти; Екатерина Медичи для него — пособница и вдохновительница убийц, но о короле Отман высказывается более осторожно; главную вину его он видит даже не в жестокости, а в предательстве доверившихся ему людей и коварстве; он сравнивает его с другими государями: с его точки зрения, даже Сицилийская вечерня или казни Митридата не могут идти в сравнение, поскольку "другие государи направляли свою жестокость против людей, не желавших признавать их государями, а здесь король выступил против своих граждан и прирожденных подданных, которые подчинялись ему в силу верности и лояльности, а не из страха" [349]. К сочинению было приложено и другое: для сравнения давалось описание жестокости и коварства Кристиана II Датского во время Стокгольмской Кровавой бани, и клеймо тирана переносилось на Карла IX. Вывод был ясен — "имя государя обесчещено постыдным предательством", "Варфоломеевская ночь — нарушение законов нации", "нация обесчещена, запятнана двумя мерзкими пороками — коварством и жестокостью" [350].
Именно здесь подобраны самые страшные детали резни (примеры брались не только в Париже) — 100 тыс. зарезанных, измывательства над детьми, надругательство над трупами (расчленение тела Колиньи), бросание беременных в реку, избиение младенцев, сжигание заживо на кострах… На страшном огненном и кровавом фоне вырисовываются фигуры ничтожеств-убийц и коварного предателя короля. Так был создан миф о "холокосте", обусловленном сугубо низменными мотивами [351].
Но мартирологический элемент в этом сочинении не мог присутствовать в полном объеме — принцип мартирологии требовал героя-мученика, и этот миф был создан в биографии Колиньи. Его жизнь излагается в традициях агиографической литературы. Прежде всего следует отметить тезис о преображении человека после принятия им веры истинной — из распущенного вольнодумца он превращается в сурового аскета, почти святого, вызывая всеобщее уважение и поклонение [352]. Образ Колиньи наделен всеми социальными добродетелями: справедливостью, авторитетом, мудростью, ясным умом, воинской и гражданской доблестью [353]; описание его смерти (а Отман не имел сведений от свидетеля — пастора Мерлена, как С. Гулар) показывает величие и торжество духа, достойные венца мученика, резко контрастируя с суетой католиков в данной сцене.
Отман пытается дать и антигероя — Гиза, подчеркивая низменность целей и действий. Гиз-тиран "преследовал короля, взяв оружие в руки, возмутил государство и полностью нарушил всякое божественное и человеческое право" [354]. При этом сопоставлении автор так стремится возвысить мученика и разоблачить Гизов, что теряет всякое чувство меры, искажая всю историю войн: "Нельзя было найти более легкое средство вернуть королевство и уничтожить род Валуа, чем истребить гугенотов, защищавших его" [355]. Вся вина лежит на Гизах, Екатерине Медичи, их поддерживавшей по злокозненности своей натуры, а "Колиньи питал жалость к своему народу и его страданиям" [356].
В этой картине Отмана в целом был изменен только один штрих: Гиз не мог противостоять как антигерой мученику; на эту роль требовалась более крупная фигура. Поэтому завершает становление мифа памфлет о Екатерине Медичи [357]. Ее образ дан как само исчадие ада — преступница-итальянка, узурпатор, отравительница и даже колдунья; "славная ученица своего Макиавелли" и флорентийка ненавидела знать и "желала искоренить головы всех тех, кто мог законно противостоять нашим злым замыслам, тех, кто не мог нам помочь в злодействах и предательствах" [358].
Уже на следующий год после Варфоломеевской ночи можно говорить о формировании ведущих идей и концепции протестантского мифа в целом и мифа о Варфоломеевской ночи в частности — идея борьбы правительства против собственного народа, ксенофобия, мученичества за веру, дискредитация организаторов резни, низменность побуждений и статус убийц. В мифе широко использовались мартирологические мотивы, приемы контраста и преувеличения, идеализации или компрометации персонажей. Эмоциональный накал и обличительный пафос были вполне искренни, публицисты были убеждены в своей правоте, и их версия казалась современникам (особенно в других странах) убедительной. Так сформировался миф о Варфоломеевской ночи, созданный протестантскими публицистами и увлекший многих деятелей художественной культуры.
Совращение и бойня: "Королева Марго" Патриса Шеро
Моше Слуховски
Фильм Патриса Шеро — уже пятое воплощение на экране романа Александра Дюма о Маргарите Валуа. В 1910 г., спустя всего десять лет после выхода первого исторического кинофильма, французский режиссер Камиль де Морлон создал первую версию "Королевы Марго". Последующие появились в 1914, 1920, 1954 (с Жанной Моро) и 1961 гг. [359]Произведение Шеро удостоилось пяти призов Сезар в Канне и имело огромный успех во Франции.
Его популярность не должна удивлять. Дюма умел хорошо писать и нравиться публике и был всегда готов изменить ход повествования в угоду издательским запросам и требованиям читателей. Не будем забывать, что "Королева Марго" родилась как героиня многосерийного романа в парижском еженедельнике " La Presse " (25 декабря 1844 г.), где она заменила бальзаковских "Крестьян", наскучивших читателям. Долголетие королевы зависело от ее умения забавлять и поражать буржуазную аудиторию газеты. Поэтому Дюма создал "фабрику романов", в которой с помощью многочисленных вымышленных писателей и историков (включая Огюста Маке) производил еженедельные эпизоды. Серийное происхождение романа, как и факт сотрудничества, объясняет его эпизодическую структуру. Как заметил Шеро, "в романе заложено много мин. Мы поняли, что многие сцены удваиваются: два вскрытия, две аудиенции, две сцены с шествием короля по улицам, несколько балов" [360].
Экономическая зависимость Дюма от постоянного успеха его романов связала его личную судьбу с популярностью "Марго", и он развил успех газетных листков, переработав свой роман для сцены вскоре после завершения публикации. Пьесу впервые поставили 20 февраля 1847 г. — то была премьера "Исторического театра" Дюма. Не испугавшись 5 актов и 15 сцен, толпа простояла 24 часа на бульваре Тампль, чтобы попасть на представление, которое длилось с 9 часов вечера до 3 часов утра. Торговки разносили миски с бульоном, мальчишки — свежий хлеб, желающие прилечь могли купить связку соломы, но большинство провело ночь в разговорах, песнях или спорах с типичными предпринимателями XIX в. — gardeurs de place [361]. 10 тыс. разочарованных поклонников театра не получили билетов на премьеру, хотя "Марго" целый год собирала полные залы, и лишь революция 1848 г. положила этому конец.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: