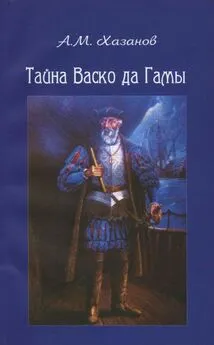Анатолий Хазанов - Экспансия Португалии в Африке и борьба африканских народов за независимость (XVI–XVIII вв.)
- Название:Экспансия Португалии в Африке и борьба африканских народов за независимость (XVI–XVIII вв.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1976
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анатолий Хазанов - Экспансия Португалии в Африке и борьба африканских народов за независимость (XVI–XVIII вв.) краткое содержание
Большое внимание в книге уделено освободительной борьбе африканских народов.
Экспансия Португалии в Африке и борьба африканских народов за независимость (XVI–XVIII вв.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Все высшие административные и судебные должности в колониях занимали португальцы — уроженцы метрополии. Как правило, это были разорившиеся дворяне, приехавшие в колонии на временное жительство с целью поправить свои дела и стремившиеся разбогатеть в возможно короткий срок.
Отправление административных и иных общественных функций в колониях считалось весьма прибыльным делом, и поэтому многие из португальцев добивались получения доступа к высшим должностям в колониальном аппарате. Оклады колониальных чиновников были высокими. Сохранился любопытный документ, датируемый 1590 или 1591 г., в котором содержится отчет о расходах в крепостях Софала, Мозамбик и Сена. Из него видно, что годовое жалованье алкайда составляло в Мозамбике 100 тыс. рейсов, в Сене — 140 тыс., в Софале — 120 тыс. плюс 18 тыс. «на содержание», фактора в Мозамбике — 100 тыс., в Сене— 140 тыс. плюс 54 тыс. рейсов от губернатора и 4500 рейсов в месяц на содержание рабов. Овидор в Мозамбике получал 100 тыс. рейсов в год.
Жалованье капитана Софалы составляло 418 тыс. рейсов в год.
Как явствует из того же документа, капитанам крепостей разрешалось иметь по 50 слуг, на содержание которых им ежегодно выделялась сумма до 744 тыс. рейсов [137, т. IV, с. 2–5].
Главные же доходы колониальным чиновникам давало не официальное жалованье, а многочисленные злоупотребления и синекуры, связанные с отправлением административных функций. Эти вопиющие злоупотребления и неограниченный произвол открывали широкие возможности для обогащения, и это-то и делало перспективу получения должностей в колониях настолько заманчивой, что губернаторы Анголы Т. С. Тавариш (1701–1702) и Э. Ф. Аларкан (1717–1722) приняли предложения занять этот пост, когда им было около 80 лет.
Широкие полномочия чиновников, бюрократический централизм, система фаворитизма, продажа должностей, казнокрадство составляли отличительные черты государственного колониального аппарата.
«В колониях Испании, Португалии и Франции, — писал в 70-х годах XVIII в. Адам Смит, — правительства отличаются тем же абсолютистским характером, какой они имеют в их метрополиях, и неограниченные полномочия, которые эти правительства обычно представляют всем своим низшим чиновникам; естественно, осуществляются там, ввиду большой отдаленности, с более чем обычными произволом и насилием» [29, т. II, с. 174].
Во всех звеньях колониального аппарата царили неслыханная коррупция и взяточничество. Высшие функционеры обнаруживали удивительную изобретательность по части всякого рода злоупотреблений служебным положением, которые принимали порой столь огромные масштабы и скандальный характер, что королевский двор время от времени издавал на этот счет морализующие указы.
Так, указ от 12 апреля 1785 г. содержит ни к чему не обязывающие сентенции о коррупции губернаторов и капитанов Мозамбика, Сены и Софалы, проявившейся в незаконном повышении своего жалованья, назначении своих родственников и слуг на доходные должности, в получении подарков и взяток, в участии в различных торговых сделках и комбинациях с помощью денег, взятых из королевской казны, «чтобы вымогать чужое состояние и увеличивать свое» [394, с. 172].
В источниках имеются многочисленные свидетельства всякого рода чиновничьих злоупотреблений. Силва Корреа сообщает в своей «Истории Анголы», что португальские купцы обращались к капитану-мору с просьбой предоставить им носильщиков, за что он обычно получал с них крупные взятки. Кроме того, он отправлял с этими носильщиками для продажи свои собственные товары «в самые отдаленные и выгодные места». «Наконец, — сообщает этот весьма осведомленный информатор, — капитан-мору грозил невероятный позор, если он не мог сделать свою торговлю исключительной и получить большие барыши. Все стремились избежать этого позора любыми средствами, поскольку короткий срок в три года недостаточен, чтобы нажить значительное состояние» [134, т. I, с. 37–38].
Монах-иезуит Мануэл Баррету в своем докладе вице-королю Ж. Нунью да Кунье (1667) сообщал, что, хотя привилегии на торговлю с банту на материке, а также на торговлю с Мадагаскаром и другими близлежащими островами были пожалованы королем жителям о-ва Мозамбик, губернаторы лишили их этих прав и, чтобы обеспечить все прибыли от торговли для себя, «они узурпируют все, так что теперь всего лишь один или два жителя имеют кое-какой капитал, тогда как в прежние годы в городе было много богатых купцов». Губернаторы Мозамбика, сообщает Баррету, ввели порядок, при котором жители могли покупать товары только у них по их собственным ценам, а также и продавать товары только губернатору, и никому больше [137, т. III, с. 437].
В коллекции документов, изданной в конце XIX в. известным португальским географом Лушиану Кордейру, имеется любопытное свидетельство очевидцев о положении дел в Анголе: «Причина того, что королевство ныне находится в плохом состоянии и не имеет рынков, состоит в том, что… всю выгоду получают только губернатор и его чиновники, а жители и торговцы несут убытки из-за отсутствия торговли, и Его Величеству оказываются плохие услуги, ибо если не увеличивается торговля, то не увеличится и его казна» [67, с. 13]. Самые большие прибыли высшим колониальным чиновникам в XVII–XVIII вв., безусловно, давала работорговля. В одном из документов того времени мы находим любопытное свидетельство, дающее представление о степени, формах и методах участия административного аппарата в работорговле: «Причина отсутствия рынков и продажи рабов состоит в следующем: губернаторы устанавливают тиранический налог на эти рынки, который составляет одного раба из каждых десяти. Тотчас после того, как его европейский чиновник выберет этого одного раба из каждого десятка, является его скупщик, который выбирает второго здорового раба. Вскоре приходит овидор с черным чиновником и отбирает себе лучших рабов. Когда овидор их уводит, секретарь губернатора и другие лица… выбирают хороших рабов, оставляя лишь жалкие и ни на что не годные отбросы, состоящие из негров — стариков и детей» [там же, с. 245].
Попустительская политика королевского двора, не пугавшая слабых и не стеснявшая сильных, создавала возможности для неслыханного обогащения баловней судьбы, вознесенных на высшие ступени бюрократической иерархии. Губернатор Анголы Луиш Сезар де Менезиш (1697–1701) обвинялся в том, что вернулся из колонии с состоянием 1,5 млн. крузадо [394, с. 171]. Королевский указ от 5 октября 1742 г. констатировал: «Среди моих вассалов в королевстве Ангола существует чрезмерная и ненужная роскошь как в одежде и костюмах, так и при похоронах» [там же].
Буржуазные историки иногда признают, что колониальная администрация допускала многочисленные злоупотребления. Однако, признавая это, они тотчас же подчеркивают, что государство в лице королевской власти вело решительную борьбу со всякого рода злоупотреблениями, строго наказывая виновных, и что в основе португальской колониальной системы лежали принципы гуманности и справедливости. Изучение документов того времени показывает, что дело обстояло иначе. Королевская власть действительно боролась со злоупотреблениями колониальных чиновников, но только с теми, которые задевали интересы королевской казны. Особенно строго лиссабонский двор наказывал тех чиновников, которые нарушали королевскую монополию на торговлю пряностями, слоновой костью и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: