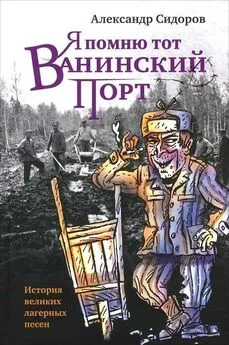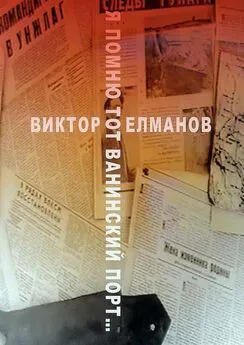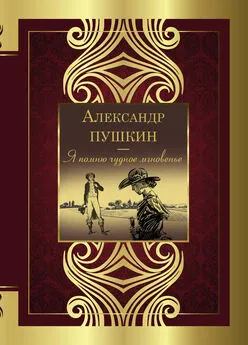Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Название:Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-192-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен краткое содержание
Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Тебя, больную, совсем седую
Наш сын к вагону подводил, —
со времени расставания возлюбленных утекло немало времени. Разумеется, лагеря не красят человека и даже могут состарить — но не до такой же степени! Судя по песне, милая лагерница в неволе не особенно перетруждалась — «В любви и ласках время незаметно шло», наслаждалась вместе с подругами северным сиянием… Возможно, куда более разрушительно подействовали на неё послевоенные годы и быт матери-одиночки, да к тому же — бывшей заключённой? Как бы то ни было, но между расставанием на пристани и встречей в Ростове-папе срок прошёл изрядный. То есть влюблённому зэку советская Фемида явно намотала солидный срок наказания.
Судите сами. Чтобы молодая, красивая женщина превратилась в «больную, совсем седую», по крайней мере, лет десять должно пройти. Кроме того, обратите внимание: сын подводит мать к вагону. Понятно, от волнения ноги могут отняться, но всё же вкупе с эпитетами «больная, совсем седая» рисуется портрет женщины, которая без помощи передвигается с трудом. Сколько же лет должно быть сыну, чтобы он подводил мать, а не мать — его? Минимум лет 12. Пусть даже 10 лет — но это уже предел. Если возраст меньше, наверняка скажут: «Больная женщина с трудом вела семилетнего сына»…
То есть встреча могла произойти не ранее 1955–1957 годов. А вероятнее всего, и позже.
Между тем за этот период произошло важнейшее событие в истории ГУЛАГа — так называемая «ворошиловская», или «бериевская», амнистия 1953 года. «Ворошиловской» её назвали потому, что указ об амнистии подписал председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ефремович Ворошилов (а также секретарь Президиума Николай Пегов, но такую мелочь народ во внимание не принял). И всё же справедливее назвать амнистию «бериевской» (почему-то все лагерники, с которыми мне довелось беседовать, произносили это слово через «ё» и с ударением на третьем слоге — «бериёвская»). Именно первый заместитель председателя Совмина СССР и министр внутренних дел Лаврентий Павлович Берия подготовил и 26 марта 1953 года представил докладную записку с проектом указа об амнистии своему формальному шефу Георгию Максимилиановичу Маленкову — председателю Совета министров СССР. Берия отмечал, что «содержание большого количества заключённых в лагерях, тюрьмах и колониях, среди которых имеется значительная часть осуждённых за преступления, не представляющие серьёзной опасности для общества, в том числе женщин, подростков, престарелых и больных людей, не вызывается государственной необходимостью».
27 марта указ об амнистии подписывает Ворошилов, а 28 марта документ публикуется в «Правде». К тому времени в исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах и колониях содержалось 2 526 402 человека. Освободить надлежало осуждённых на срок до 5 лет, всех осуждённых (независимо от срока) за должностные и хозяйственные преступления, женщин, имеющих детей до 10 лет или беременных, несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, пожилых и больных, страдающих тяжёлым неизлечимым недугом. Осуждённым на срок свыше 5 лет срок сокращали вполовину. Со всех амнистируемых снималась судимость и поражение в избирательных правах. Всего под амнистию подпадал 1 203 421 заключённый, а также были прекращены следственные дела на 401 120 человек.
Амнистия не применялась к лицам, осуждённым на срок более 5 лет за контрреволюционные преступления, крупные хищения социалистической собственности, бандитизм и умышленное убийство.
Совершенно понятно, что наш «колымский влюблённый» под эту амнистию — сократившую лагерное население наполовину! — не попал. Вряд ли речь в песне идёт о его шести-, восьмилетием сынишке, подводящем к вагону дряхлую маму. Отсюда вывод: герой песни — либо «политик», либо бандит, убийца, крупный расхититель. По-настоящему крупный; осуждённые по указам «два-два» и «за колоски» в большинстве под амнистию подпадали. Не в последнюю очередь ради них и был принят этот документ: в своей записке Берия подчёркивал, что стремительное пополнение ГУЛАГа после войны вызвано сталинской репрессивной политикой — в частности, тем, что в 1947 году были приняты указы об усилении уголовной ответственности за хищения и кражи.
Предположим, что колымский зэк был осуждён по 58-й статье. Но тут есть нестыковки. Если наш герой — «политик», тогда несколько странно, почему он покидает лагеря «по актировке, врачей путёвке». Понятно, что со здоровьем у него — серьёзные проблемы («С твоим отъездом началась болезнь моя»). Однако, несмотря на болезнь, по амнистии 1953 года его не освобождают. То есть он попал в группу, которая не подлежит освобождению, даже несмотря на критическое состояние здоровья. Слово «актировка» в тексте песни (с последующей ссылкой на врачей) означает освобождение заключённого от наказания в связи с тяжёлой болезнью. Такое освобождение возможно на основании заключения (акта) медицинской комиссии. Есть специальный перечень заболеваний, которые дают право «сактировать» осуждённого: последняя стадия туберкулёза, рака, ряд психических заболеваний и т. д. В 1953 году нашего колымчанина не сактировали и не амнистировали — значит, он не имел на это права. Пока всё сходится: с «политиком» так бы и поступили.
Но затем его всё-таки актируют на волю! Однако в отношении «контриков» освобождение из лагеря по болезни практически не применялось: их оставляли догнивать за «колючкой» — в лучшем случае на инвалидных командировках или в больницах ГУЛАГа (собственно, и это подпадало под определение «актировка»).
Читатель может возразить: но ведь вскоре началась так называемая «хрущёвская оттепель»! Политических заключённых в массовом порядке стали отпускать и реабилитировать! Верно. Именно это как раз и смущает… Действительно, с 1954 года начинает работу созданная Президиумом ЦК КПСС комиссия в составе Николая Поспелова, Аверкия Аристова, Павла Комарова и Николая Шверника. С 1954 по 1961 год за отсутствием состава преступления были реабилитированы 737 182 человека. Но герой колымского романса не только не подпадает под «бериевскую» амнистию, но и «пролетает» мимо «поспеловской комиссии», иначе бы он вышел не как «актированный», а как реабилитированный зэк.
Объяснение одно: «колымский папа» — не «политик». Тогда, возможно, бандит, убийца или рецидивист? Тоже сомнительно. Во-первых, не те замашки. Уголовники предпочитали не романтическую любовь, а «шалашовок» или, того хуже, «колымский трамвай».
Шалашовки — это лагерные проститутки, которые отдавались за деньги либо прямо в бараке (отгородив постельное место от остального помещения простынёй и соорудив таким образом нечто вроде шалаша), либо в настоящем шалаше на природе. Отсюда и название.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: