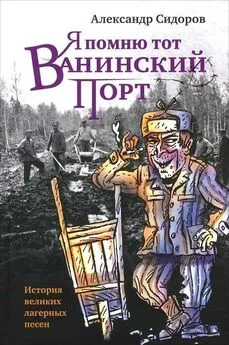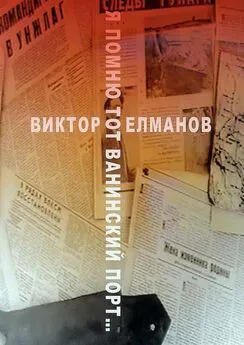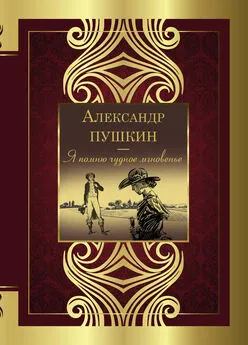Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Название:Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАиК
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91631-192-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен краткое содержание
Я помню тот Ванинский порт: История великих лагерных песен - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К началу 1950-х годов эта чудовищная статистика несколько изменилась к лучшему. Так, на строительстве Волго-Донского канала, Цимлянского гидроузла и оросительных систем простои одноковшовых экскаваторов за восемь месяцев 1952 года составляли 21,3 %, а многоковшовых — 13,8 %. На строительстве Куйбышевской ГЭС эти показатели составляли 11,4 и 40 % соответственно, Сталинградской ГЭС — 19,2 и 9,7 %. Сказалось то, что к этому времени техническая грамотность и профессиональная подготовка советских рабочих резко повысились. Причём не в последнюю очередь в результате войны. Огромная танковая мощь Советского Союза сослужила добрую службу: любой бывший танкист легко осваивал сельскохозяйственную и строительную технику. Дороги войны также «обкатали» тысячи водителей автотранспорта. К сожалению, немало этих людей попало и в лагеря. Но всё же постепенная механизация тяжёлых и трудоемких работ на лагерных стройках, с одной стороны, снижала потребность в большом количестве заключённых, с другой — повышала спрос на квалифицированные кадры. Чем дальше, тем больше становилось очевидным, что с топором, тачкой и кайлом в современных условиях катастрофическое отставание от развитых стран обеспечено.
«Я вернусь раньше времени…»
Особого внимания заслуживает обещание лирического героя песни: «Я вернусь раньше времени, дорогая, клянусь!» с уточнением — «Как бы ни был мой приговор строг». Подобного рода заверений мы не встретим ни в одной арестантской песне. При этом речь не идёт о побеге: лагерник описывает, как он вернётся домой вполне открыто… Существовал ли в период создания лагерного танго способ выйти на свободу раньше определённого судом срока? Ну, была актировка, то есть освобождение по причине тяжёлой, неизлечимой болезни. Однако вряд ли именно на это уповает заключённый, обращаясь к любимой. Тогда на что же?
Самым действенным способом заслужить реальное сокращение лагерного срока являлась система так называемых «зачётов рабочих дней», когда при выполнении и перевыполнении норм выработки срок наказания соответствующим образом сокращался: например, два отбытых дня засчитывались за три, три — за четыре, один день — за два и даже один день — за три дня.
Впервые зачёты рабочих дней были введены постановлением Народного Комиссариата юстиции РСФСР от 4 декабря 1919 года. Заключённым из числа трудящихся два дня работы засчитывали за три дня отбывания наказания. Это положение вошло позже в Исправительно-трудовой кодекс 1924 года: «Проявление заключённым из среды трудящихся особо продуктивного труда и приобретение им профессиональных знаний… поощряются… зачётом двух дней работ за три дня срока». При этом постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 февраля 1928 года предлагает «в отношении классовых врагов допускать досрочное освобождение лишь в исключительных случаях». Однако на переломе 1920-1930-х годов происходит становление неформального воровского закона, согласно которому профессиональные уголовники не имели права трудиться ни в лагерях, ни на воле. Власть столкнулась с массовым отказом от работы, что оказалось для неё неожиданным и неприятным сюрпризом.
Нарком Генрих Ягода в январе 1931 года утверждает временное положение о зачёте рабочих дней заключённым, содержащимся в исправительно-трудовых лагерях, на основе которого ГУЛАГ ОГПУ утвердил 22 ноября специальную «Инструкцию по зачёту рабочих дней». Согласно этому документу, зачёты могли применяться ко всем заключённым — независимо от того, за что они судимы и какой срок получили. Но всё же принцип классового подхода не был забыт. Зачёт по первой категории — три дня работы за четыре дня срока — применялся в отношении заключённых, принадлежавших к классу трудящихся и к социально близким группам населения СССР (бывшие рабочие, крестьяне, служащие, кустари, ремесленники). Зачёт по второй категории — четыре дня работы за пять дней срока — производился по отношению к остальным группам заключённых. Ударникам производства, то есть тем, кто постоянно и существенно перевыполнял нормы, зачитывались даже два дня работы за три дня срока.
С 1 января 1935 года (через месяц после убийства в Ленинграде Сергея Мироновича Кирова) вступило в действие новое положение о зачёте рабочих дней. Оно было значительно жёстче по отношению к «контрикам». Зачёт ставился в прямую зависимость от характера преступления, социального положения заключённого и пр. Осуждённым за контрреволюционную деятельность, т. е. шпионаж, терроризм, диверсии, измену Родине и т. п., начисление зачётов допускалось только с разрешения ГУЛАГа НКВД в каждом отдельном случае: шесть дней срока наказания за пять дней работы. Священник Игорь Затолокин в очерке «Искитимский лагерь» пишет: «Зачёт в 45 дней стал присуждаться только “соцблизким” бытовикам; зачёт в 30 дней стал даваться политическим с лёгким пунктом обвинения, а на долю политических, обвинённых в шпионаже, диверсии и терроре, остался зачёт в 18 дней за квартал».
Существовало множество причин, по которым зачёты к заключённым не применялись: «промот» казённой одежды, повреждение инструментов, нахождение в штрафном изоляторе и т. д. В то же время на особо тяжёлых работах существовала особо льготная система зачёта рабочих дней. Так, в приказе НКВД СССР № 241 от 1 августа 1935 года указывалось: «В лагерях, особо отдалённых, находящихся в тяжёлых природных и климатических условиях, ведущих строительство государственного значения (Бамлаг, Севвостлаг, Вайгач, отдельные подразделения Дальлага и Ухты), применяется сверхударный зачёт, за 1 день работы — 2 дня срока, что сокращает срок наполовину, т. е. за один календарный год считается два года».
Эти меры служили серьёзными стимулами для многих колымских лагерников. В начальный период деятельности Дальстроя система зачётов позволяла заключённым сократить сроки наказания в полтора-два раза. Для них были установлены нормы выработки «на основе единых всесоюзных норм с соответствующими поправочными коэффициентами». По итогам 1935 года зачёты имели 72 % заключённых. Однако затем нормы для зэков стали резко увеличивать. В 1936 году (когда нормы выработки подняли на треть) среди лагерников насчитывалось уже 58 % «зачётников». Но даже в этих условиях, как отмечалось в отчёте Дальстроя за 1936 год, 20 % заключённых являлись «стахановцами» и выполняли нормы на 150 %, а около 40 % были «ударниками» — регулярно выполняли задания. Однако от 30 до 50 % лагерников с повышенными нормами не справлялись.
Вместе с тем, как указывает ряд исследователей, возможность существенного сокращения срока, помимо «текучести» арестантов, вела к припискам и даже коррупции, о чём начальник лагерей железнодорожного строительства Натан Френкель доложил в 1939 году Берии. По некоторым сведениям, именно в эти годы зарождается будущее «сучье» движение в воровском мире, а часть воров, не работая реально, между тем числится в бригадах и даже попадает в число «ударников» посредством запугивания и подкупа нарядчиков. Некоторые авторитетные блатари даже формально занимают должности бригадиров. Так что бардак с начислением зачётов рабочих мест, конечно, имел место.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: