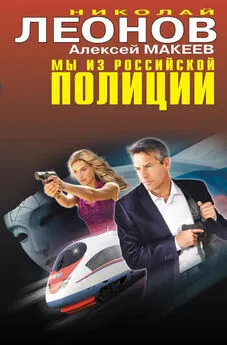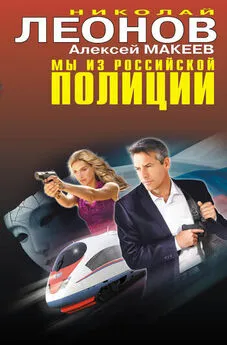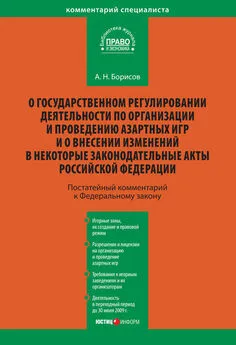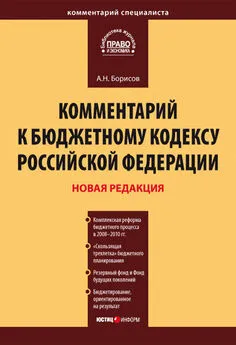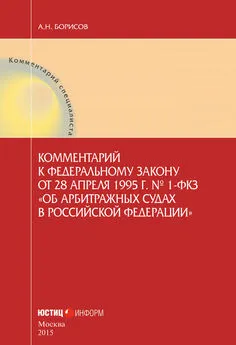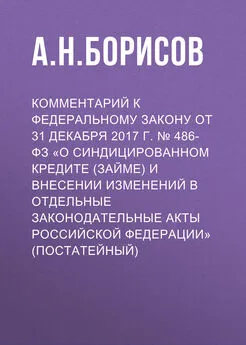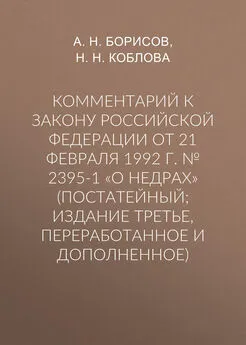Александр Борисов - Три века российской полиции
- Название:Три века российской полиции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-386-09033-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Борисов - Три века российской полиции краткое содержание
Другой вопрос — как, почему и когда появилась полиция в России, какой исторический путь она прошла и какой опыт оставила грядущим поколениям?
В настоящей книге предпринимается попытка ответить на эти вопросы.
Три века российской полиции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Указ 1617 г. не возымел действия, и 9 июня 1646 г. последовал очередной — о запрещении мировых по разбойным делам, гласивший: «Которые исцы с разбойники и приводными людьми с поличным в разбойных делех, не дожидаясь указу, учнут миритца и мировые челобитные учнут в приказ приносить, и тот их мир в мир не ставить, и татем и разбойником указ чинить по прежнему уложенью, хто чево доведутца. А исцом за то пеня чинить, смотря по делу».
Однако сломать традицию было не просто. И даже в XVIII в., когда в стране уже существовала регулярная полиция, правительству не раз приходилось напоминать о недопустимости мировых по уголовным делам.
Мировая запись черного попа Никандра с крестьянами Белозерской Тунбажской волости, убившими сына его, священника Луку; 1640 г.
Се яз черной поп Никандр Никитин, сын Попов, Тунбажския волости Курысской постриженик, и своими с детьми, с попом с Федотом Тунбажские волости Николы Чюдотворца, да сыном с Опаньею да с Васильем, дали есми запись мировую на собя и детей своих в том, что в нынешнем во 148 году, апреля в 23 день, после обедни у Николы Чюдотворца, после канона мирского, учинился спор у вдового попа сына моего Луки, Тунбажские ж волости, с Михайловыми Кулибакина крестьяны, с Омросом с Семеновым, да с Кирилою с Ермоловым, да с Третьяком Сидоровым, и тот Омрос сына моего, вдового попа Луку, с товарыщи зарезал до смерти; и я было, старец Никандр, вошел на рознимку, и тот Омрос Семенов и меня, старца Никандру, ножем же резал. И я, старец Никандр, со своими детыми его, Омроса, и с товарыши в своем ножевом резанье и сына своего, вдового попа Луки, в резанье во всем простил; и впредь мне, старцу Никандру, своего резанья и сына своего Луки убийства на Омросиме, и на Кириле, и на Третьяке не пытати и не отискивати ни в головных деньгах, ни в похоронных, на них государю не бити челом, окроме государевых пенных, а пени, что будет государь укажет и в том его царьская воля, а яз, старец Никандр, и с своими детьми то дело отдали Богу судити все. И в том есмя я, старец, с своими детьми и мировую запись дали Омросу с товарыши. А мировую запись писал Богдашко Никитин, сын Шкурляев, лета 7148 году, мая в 7 день. <���…> К сей мировой записи черной поп Никандр, в детей своих в Онаньино место да в Васильево, руку приложил. К сей мировой записи поп Федот и руку приложил.
(Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею. — Т. 2. — С. 60.)
Глава 2
Создание «полицейских» приказов
Со временем преступление стало рассматриваться прежде всего как деяние, нарушающее интересы общества и правопорядок, установленный государством. В силу этого роль государственных органов в расследовании и раскрытии преступлений существенно возросла. В XV в. постепенно начинает складываться процессуальная форма расследования преступлений, получившая название «розыск» или «сыск», а в XVI и XVII вв. она становится ведущей. Все расследования теперь производились «государевыми людьми». Они допрашивали обвиняемых, собирали доказательства и т. д. В раскрытии преступлений приветствовались и негласные методы. В частности, по царскому указу от 2 сентября 1695 г. воеводам в городах предписывалось «про воров и разбойников проведать тайно всякими мерами». В качестве основной меры дознания в те времена выступала пытка. «А приведут татя <���…> и того татя пытать», — гласила одна из статей Соборного уложения 1649 г. (XXI, 9). Признание подследственного, пусть даже и под пыткой, считалось неоспоримым доказательством вины и служило основанием для наказания.
В 1556 г. была отменена система кормлений (когда местная администрация содержалась за счет населения), а до этого она вызвала серьезные недостатки в организации борьбы с преступностью. Должностные лица, не получавшие жалованья как такового, прежде всего были заинтересованы в собственном обогащении за счет поборов с крестьян и посадских людей; причем львиную долю поборов составляли судебные штрафы и пошлины. В результате возникла парадоксальная ситуация — наместники и волостели не проявляли интереса к борьбе с преступностью [29] Получение грамоты о неподсудности княжеским чиновникам рассматривалось как величайшая милость. В первом томе «Актов исторических» (СПб., 1841) содержится немало таких документов, относящихся к XV–XVI вв. Например: «Жалованная грамота Рязанского великого князя Олега Иоанновича Солотчинскому монастырю на село Федорково, с освобожденьем зазывных людей от подсудимости княжеским волостелям и от повинностей на три года», ок. 1402 г.; «Данная грамота княгини Марии, супруги нижегородского князя Даниила Борисовича, Спасо-Ефимиеву монастырю на село Омуцкое, с судом, поличным и всеми пошлинами, кроме душегубства», после 1425 г.; «Жалованная грамота великой княгини Марии Ярославовны Чухломскому Покровскому монастырю об освобождении живущих в Усольской волости, с Верховья, монастырских людей, старожильцев и пришлых от дани и пошлин, о неподсудимости их волостелям и тиунам и о неприкосновенности принадлежащих обители соляных варниц», 4 октября 1450 г.; «Жалованная грамота великого князя Василия Васильевича Троицкому Сергиеву монастырю о том, чтобы радонежские волостели не судили монастырских крестьян, и о сборе с них кормов в пользу тех волостелей», ок. 1455–1462 гг.; «Жалованная несудимая грамота Чухломскому Покровскому монастырю», 5 октября 1518 г. и др.
. Провокации и даже фальсификации преступлений (сами по себе преступные) стали обычным явлением. И. С. Пересветов в «Большой челобитной» критикует систему кормлений: «Вельможи царские на городех и на волостех, домышляемые лукавством своим и диавольским прельщением, мертвых из гробов новопогребенных выгребали да те гробы тощи (пустые. — Авт. ) загребали; да того мертвого человека, рогатиною исколовши или саблею иссекши, да кровию измажут, да богатого человека в дом подкинут, да истца ему ябедника поставят, который нимал Бога не знает, да осудивши его неправедным судом, да подворие его и богатство со з дом разграбят» [30] Пересветов И. Сочинения / Подг. текста А. А. Зимина. — М.; Л., 1956. — С. 179.
.
Обличал наместников-бояр и знаменитый церковный деятель Максим Грек, который далеко не симпатизировал единодержавной политике Василия III. В своем труде «Слово» (1537 г.) он писал: «Ныне так возобладала страсть иудейского сребролюбия и лихоимства судьями и властителями, посылаемыми благоверным царем по городам <���…> что они даже слугам своим позволяют придумывать всякие неправедные обвинения против людей состоятельных и для этого подкидывают иногда по ночам в их дома разные предметы, а иногда <���…> притаскивают труп мертвого человека и покидают его среди улицы, дабы таким образом, под предлогом якобы праведного мщения за убитого, иметь повод привлечь к суду по делу об убийстве не одну только улицу, но и всю ту часть города, и чрез то получить в виде мерзких и богопротивных корыстей множество серебра. Кто от начала века слышал, чтобы кто-либо из неверных язычников дерзнул на такой богомерзкий способ лихоимства, какой придуман ныне нашими властями?» [31] Сочинения преподобного Максима Грека в русском переводе / Ч. I: Нравоучительные сочинения. — Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1910. — С. 127.
. [32] О том, что дело не изменилось в лучшую сторону и много лет спустя, можно судить по тому факту, что царскими грамотами от 31 мая 1615 г. и 31 октября 1616 г. были изъяты из юрисдикции нижегородских воевод родственники и крестьяне Козьмы Минина, которым «от исков и от поклепов чинится продажа великая» [Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук. Дополнены и изданы Высочайше учрежденною комиссиею. — Т. 4: 1643–1700. — № 71. — С. 108; № 85. С. 118–119.].
Интервал:
Закладка: