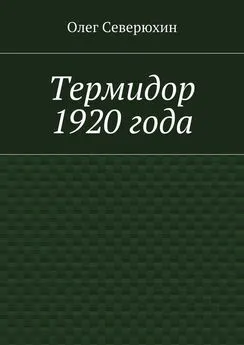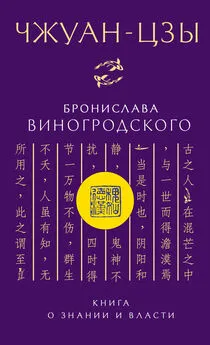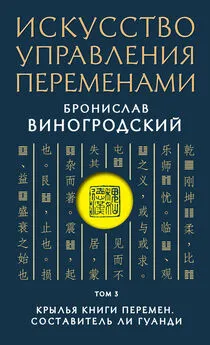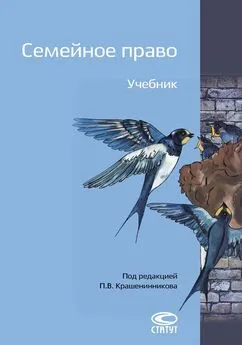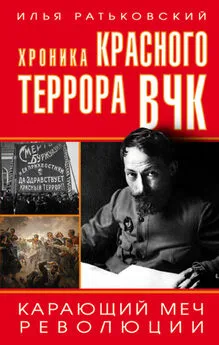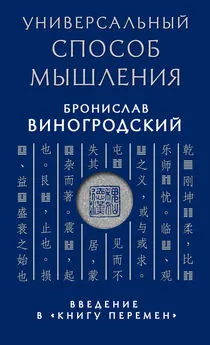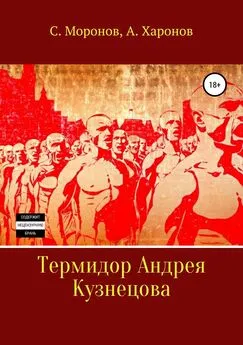Бронислав Бачко - Как выйти из террора? Термидор и революция
- Название:Как выйти из террора? Термидор и революция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Baltrus
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-98379-46-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бронислав Бачко - Как выйти из террора? Термидор и революция краткое содержание
Пятнадцать месяцев после свержения Робеспьера, оставшиеся в истории как «термидорианский период», стали не просто радикальным поворотом в истории Французской революции, но и кошмаром для всех последующих революций. Термидор начал восприниматься как время, когда революции приходится признать, что она не может сдержать своих прежних обещаний и смириться с крушением надежд. В эпоху Термидора утомленные и до срока постаревшие революционеры отказываются продолжать Революцию и мечтают лишь о том, чтобы ее окончить.
Как выйти из террора? Термидор и революция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
При этом, похоже, ни один из двух представленных лагерей не придает особого значения термидорианскому периоду, когда тем не менее утверждался дискурс, направленный против вандализма. Одни не делают этого, поскольку испытывают отвращение при мысли о том, чтобы признать приоритет реакции, которой следует отдать должное в плане прекращения разрушений, тогда как Революция в свои «героические» годы явно претендовала на защиту искусств и культуры. Кроме того, созидательная работа термидорианского периода в области культуры — к примеру, организация Политехнической школы, Нормальной школы или Музея французских памятников — была продолжением инициатив, проявленных во времена правления монтаньяров. «Хулители» вандализма преуменьшали значение Термидора по совершенно другим причинам. В конечном счете Термидор осудил вандализм, однако в реальности не прекратил его. Всё те же свойственные Революции опустошения продолжались от начала до самого конца, один период от другого отличался лишь их интенсивностью. После Термидора ничто не было отреставрировано, и Музей Ленуара являлся самое большее кладбищем искалеченных скульптур, а их так называемое сохранение очень часто оказывалось еще одним способом их изуродовать. Полемические рассуждения о вандализме всегда сходились на том, что стремление к разрушению скорее активно декларировалось, чем действительно реализовывалось. В конце концов, Лион, город, который Конвент обрек на исчезновение, до сих пор существует... Одни видели в этом доказательство того, что вербальное насилие нередко преобладало над действиями и что Революция, даже если она порой и впадала в диктуемые исключительно «внешними обстоятельствами» бесчинства, в конце концов смогла их преодолеть. Другие видели в этом подтверждение той мысли, что стремление к разрушению не могло в полной мере реализоваться за недостатком времени и физической возможности, поскольку в противном случае Франция лишилась бы всего своего культурного наследия.
И те и другие лишь делают очевидными внутренние противоречия культурной политики Революции. С самого начала Революция вторгалась в сферу культуры, рождала надежды и мечты и провоцировала неудачи. Она претендовала на то, чтобы быть дочерью Просвещения, единственной законной наследницей «просвещенного разума». Тем самым революционная власть приписывала себе роль распорядителя если не всего национального культурного достояния, то, по крайней мере, той его части, которая в силу ряда политических и социальных мер — конфискации собственности духовенства и эмигрантов (однако разве эти меры не имели культурного аспекта? можно ли их понять вне этого аспекта?) — оказалась национализирована. Власти, представляющей Нацию, принадлежало право поставить эти культурные ценности на службу Нации, а не горстке привилегированных, стать защитницей искусств, перевести их в пространство культуры, которая совпадала с демократическим политическим пространством. Революционные власти постоянно и в полный голос настаивали на этой обязанности и этой ответственности и соответственна наталкивались на все практические трудности, которые влекло за собой управление национализированным культурным достоянием: недостаток подходящих помещений, компетентного персонала, от которого требовалась лояльность новому режиму, нехватка средств и т.д. К этим недостаткам инфраструктуры добавлялись, особенно в «героический» период, революционные иллюзии: благодаря «революционной энергии», которую Барер сравнивал с солнцем Африки, заставляющим быстрее произрастать растения, каждый проект мог быть реализован очень быстро, в течение нескольких месяцев, а на худой конец, одного или двух лет. Однако если под «солнцем Революции» урожай проектов — в этом сомнений нет — созревал быстро, то в том, что касалось их реализации, одного только солнца было недостаточно: количество культурных ценностей, которыми надо было управлять, оказалось слишком велико (более миллиона книг по всей стране были свалены в импровизированные хранилища), и если не хватало средств, то и цели оставались неопределенными.
1789 год претендовал на то, чтобы быть продолжателем определенного культурного прошлого, но в то же время и разрывом, дающим Истории новую отправную точку. Таким образом, он претендовал на возрождение и очищение, особенно в отношении культурного наследия, запятнанного веками тирании и предрассудков. Однако слова «возродить» и «очистить» были двумя терминами той эпохи, которые плохо скрывали непреодолимое противоречие: необходимо сохранить прошлое, однако не всё прошлое, и при условии, что из него будет исключено то, что не достойно внимания народа, также обновленного, то, что не достойно сохранения и интеграции в новую цивилизацию, которую предстояло построить. (Этот народ в большинстве своем все еще оставался погрязшим в «предрассудках» и неграмотности. Элиты отдавали себе в этом отчет, однако политические и культурные последствия этого они обнаружили лишь в ходе Революции.) Революционные элиты не сомневались, что располагают непогрешимым критерием, основанным одновременно и на достижениях просветителей, и на опыте Революции, для того чтобы отсортировать культурное наследие. Однако эти критерии всегда оставались размытыми и беспрестанно ставились под сомнение. Они оказались практически неопределимыми. Даже границы между тем, что следовало разрушить, и тем, что следовало сохранить, были подвижны, неуловимы. И тому немало примеров. Так, знаменитый декрет об уничтожении «символов королевской власти и феодализма» поручал Временной комиссии по искусствам «надзирать» за сохранением предметов, которые могли быть «интересны исключительно с точки зрения искусств». Однако были ли королевские статуи интересны «исключительно» с точки зрения искусств или же являлись простыми «символами тирании»? Стереть с картины гербы, которые были на ней изображены, — это значит ее уничтожить или сохранить? Во II году Юрбен Домерг, руководитель Бюро библиографии, хотел ускорить составление единого каталога национализированных книг — огромной работы, которая шла медленно, несмотря на усилия отвечавшей за это Комиссии. Тем временем книги, сваленные в импровизированных хранилищах, портились. Соответственно, чтобы сохранить то, что «гений породил на благо и для славы народов», не следовало ли избавиться от вредоносных и бесполезных творений, как, например, те, которые «не стоят листка бумаги, на которых переписаны их названия»? А раз так, то было необходимо «принести в наше огромное книгохранилище революционный скальпель и отсечь все пораженные гангреной члены библиографического тела». Домерг соглашался сохранить самое большее один или два экземпляра «из всего, что произвела человеческая глупость» — с той же целью, с какой ботаник помещает в свой гербарий ядовитые растения. Все остальное, всю эту теологически-аристократически-роялистскую дребедень, можно продать за границу. Республика извлечет из этого двойную выгоду: «она получит деньги для своих армий и посеет посредством этих книг в умах своих врагов помутнение и бред» [154].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: