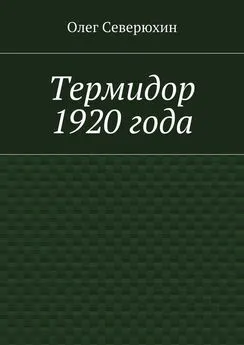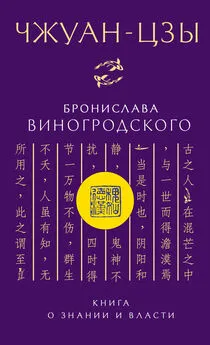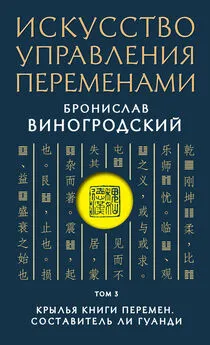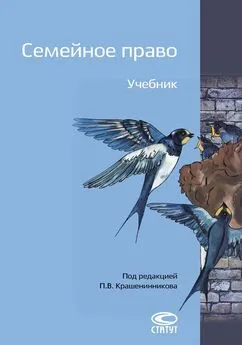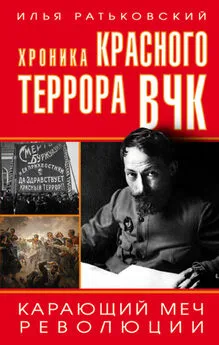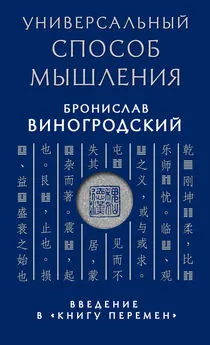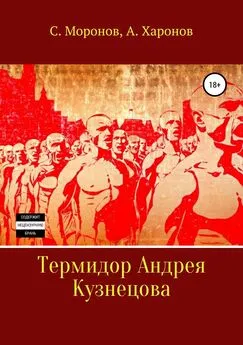Бронислав Бачко - Как выйти из террора? Термидор и революция
- Название:Как выйти из террора? Термидор и революция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Baltrus
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-98379-46-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бронислав Бачко - Как выйти из террора? Термидор и революция краткое содержание
Пятнадцать месяцев после свержения Робеспьера, оставшиеся в истории как «термидорианский период», стали не просто радикальным поворотом в истории Французской революции, но и кошмаром для всех последующих революций. Термидор начал восприниматься как время, когда революции приходится признать, что она не может сдержать своих прежних обещаний и смириться с крушением надежд. В эпоху Термидора утомленные и до срока постаревшие революционеры отказываются продолжать Революцию и мечтают лишь о том, чтобы ее окончить.
Как выйти из террора? Термидор и революция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Те же самые противоречия и соответственно экстремистские проекты, предлагающие разрешить эти противоречия при помощи «революционного скальпеля», мы находим в эпоху Революции в политике и в сфере школьного образования. В центре политического дискурса оказываются страстные дебаты о выборе системообразующих культурных и моральных моделей, об отношениях между культурой и властью, традициями и инновациями, либерализмом и дирижизмом, религией и светскостью в том демократическом обществе, которое еще предстояло изобрести [155]. К этим сложным проблемам добавляется религиозный вопрос, который пронизывает все революционные эксперименты в области культуры (и в особенности эксперименты педагогические). Революция не обладает одним и тем же универсальным содержанием во все времена и все эпохи, одни и те же действия не обязательно приобретают одно и то же культурное и социальное значение. Так и с иконоборчеством: в ходе некоторых революционных праздников в Париже, когда торжественно сжигались феодальные документы, организаторы стремились сохранить древние грамоты, рассматриваемые как «ценные памятники». И совершенно иначе обстояло дело с крестьянами, которые устраивали «иллюминации» в сельской местности во времена «Великого страха» или праздников II года. Дехристианизаторское иконоборчество, вдохновляемое и направляемое сверху революционными элитами, совершенно не обязательно имело то же культурное значение, что и разрушительные действия, совершаемые революционными армиями в маленьких городках и деревушках. Якобинская власть воображала себя централизующей властью, на самом же деле Франция оставалась куда более федералистской. Единый для всей страны декрет воплощался в жизнь очень по-разному, в зависимости от департамента и коммуны, накладываясь на традиционные локальные конфликты и антагонизмы. Вне всяких сомнений, Революционный комитет, принявший решение уничтожить в Эрменонвиле, в парке, окружающем Тополиный остров и могилу Руссо, бюсты философов, поскольку те изображали «англичан», совершил акт «вандализма». В равной мере было «вандализмом» уничтожение, систематическое и потребовавшее привлечения специального предпринимателя, королевских гробниц во Франсиаде, бывшем Сен-Дени; «вандализмом» была и идея организовать переработку сахара в аббатстве Сен-Жермен, что повлекло за собой в 1794 году случайный пожар, уничтоживший одну из богатейших библиотек. Вот другие, в равной мере «вандальские» действия: ажиотаж вокруг национальных имуществ и уничтожение настолько быстро, насколько это было возможно, того или иного особняка, того или иного монастыря. И данный список можно продолжать и продолжать. Эти акты были вандальскими по своим разрушительным эффектам и невосполнимому вреду, однако тем не менее четко видно их социокультурное и идеологическое значение. Во время Революции существовало несколько вандализмов, так же, как было несколько дехристианизаций [156]. Эти вандализмы довольно часто сливались воедино. Тем больше оснований обрисовать, насколько это возможно, их различные типы и формы, размах и нюансы каждой их волны в зависимости от региона — для того чтобы четче представить себе этот сложный культурный и социальный феномен [157]. Типологический анализ размышлений о вандализме, которые существовали в ту эпоху, уже сам по себе позволяет понять символические и культурные цели Террора.
Варвары среди нас...
В унаследованном от Просвещения языке слово «вандалы» означало «самых варварских из варваров»; говорили даже о «варварских вандалах» [158]. Общим местом революционной риторики было определение как «Варварского» того прошлого, которое необходимо уничтожить: привилегии, несправедливые законы, налоговую систему, корпорации и даже старые школы. Варвар символизировал одновременно и тиранию, и невежество. Другим общим местом дискурса, который позиционировал себя как революционный и просвещенный, была идея о том, что тирания основывается па невежестве и порождает варварство. Старый порядок, варварский и тиранический, по необходимости держал Нацию в невежестве, тогда как свобода может быть основана лишь на Просвещении, она естественный враг всякого «варварского невежества» [159].
Тем не менее уже начиная с 14 июля обвинение в варварстве в равной мере выдвигалось и против Революции. Прежде всего имелось в виду революционное насилие. Для Ривароля взятие Бастилии отнюдь не было героическим актом, положившим начало свободе. Он видел в нем лишь образ «варварского города» и черни с «обагренными кровью руками», убивавшей невинных, и носившей их головы на пиках. Та же самая чернь, «своего рода дикари», «все самое мерзкое, что могли исторгнуть лачуги и сточные канавы улицы Сент-Оноре», перебила телохранителей короля в Версале 6 октября, а затем препроводила короля и его семью в Париж, вновь пронеся перед глазами пленников насаженные на пики головы. «Горе тем, кто взбудоражит глубины нации! Для черни нет никакого века Просвещения; это не французы, не англичане, не испанцы. Чернь всегда и во всех странах одна и та же: это всегда каннибалы, всегда людоеды» [160]. Эскалация революционного насилия, в частности, после 10 августа и в ходе сентябрьских убийств еще чаще клеймилась как «варварская» и «вандальская». В контрреволюционном дискурсе подобные выражения свидетельствовали о презрении и страхе, и в равной мере это был своего рода экзорцизм Революции, которая оставалась по сути своей непонятной. «Варварская» Революция — это революция, пришедшая извне, вторжение, находящееся за рамками истории, как природная катастрофа или любая другая чудовищная вещь (здесь показательно сближение с «каннибалами», людьми-чудовищами).
И только Малле дю Пан, самый проницательный из контрреволюционных наблюдателей и аналитиков, прибегал к идееобразу вандала не только для того, чтобы опорочить Революцию, но и чтобы ее понять. Начиная с 1790 года он отмечает, что аналогии между революционными событиями и варварскими вторжениями могут объяснить не так уж много. Они были уместны, лишь если позволяли выявить новый, уникальный характер Революции. Разумеется, в ряде своих жестоких и отвратительных аспектов Революция напоминала вторжение варваров, наводила на мысли об этом «памятном разрушении», однако на сей раз «гунны и герулы, вандалы и готы пришли не с Севера и не с берегов Черного моря, они среди нас». Отрешившись от «изменчивости событий», которые хлынули в доселе небывалом ритме, необходимо выявить «разрушительную природу» Революции и ее глобальную цель. Для этого Малле дю Пан обращается к недавно появившемуся неологизму, само употребление которого подчеркивает неизведанный характер революционного феномена. Революция затрагивала — не старый или новый порядок, как это думали вначале, не республику или монархию, но цивилизацию. Тем самым борьба против Революции перестает быть внутренним французским делом; это не война между нациями и государствами. Малле дю Пан бросает призыв к новому крестовому походу во имя «цивилизации». Вся «старая Европа» оказывается в смертельной опасности перед лицом той «системы вторжения» изнутри, которая не похожа ни на какую другую. Эта «последняя битва за цивилизацию», «в которой сегодня участвует каждый европеец» [161].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: