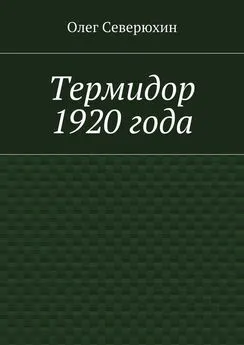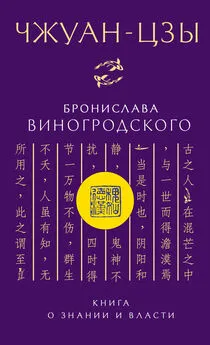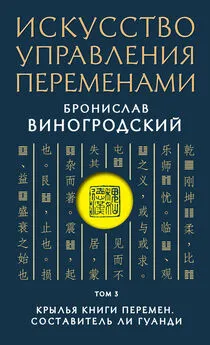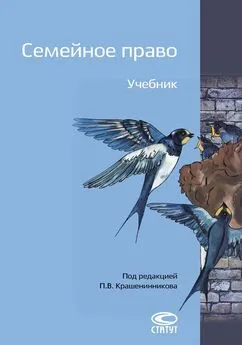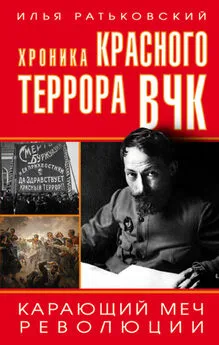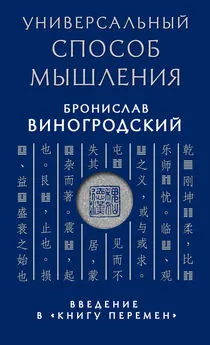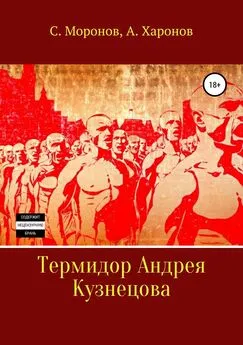Бронислав Бачко - Как выйти из террора? Термидор и революция
- Название:Как выйти из террора? Термидор и революция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Baltrus
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-98379-46-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Бронислав Бачко - Как выйти из террора? Термидор и революция краткое содержание
Пятнадцать месяцев после свержения Робеспьера, оставшиеся в истории как «термидорианский период», стали не просто радикальным поворотом в истории Французской революции, но и кошмаром для всех последующих революций. Термидор начал восприниматься как время, когда революции приходится признать, что она не может сдержать своих прежних обещаний и смириться с крушением надежд. В эпоху Термидора утомленные и до срока постаревшие революционеры отказываются продолжать Революцию и мечтают лишь о том, чтобы ее окончить.
Как выйти из террора? Термидор и революция - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вместе с этим упоминанием казни Лавуазье — славы французской науки и науки вообще — разработка обратной системы образов совершила важный шаг. Борьба против «вандалов» обретала тем самым своего мученика и соответственно свой символ. Имена наиболее известных «талантливых людей» были лишь примерами «дезорганизующей системы, отвергающей всякие таланты». Разве тот же Дюма не сказал, что «необходимо гильотинировать всех умных людей»? В Страсбурге «бросали в тюрьмы профессоров»; в Дижоне «вели охоту за преподавателями и врачами, чтобы заменить их на невежд»; повсюду, «на тех местах, где требовалась голова, находились люди, имевшие только руки». По всей Франции «надлежало парализовать или истребить талантливых людей, [...] надлежало однозначно отказывать им в свидетельствах: о благонадежности, в секциях кричали: "Не верьте этому человеку, поскольку он сочинил книгу"». Это не вызывает ни малейших сомнений: если во время «целого года Террора и преступлений варварство накинуло траурный покров на колыбель Республики», так только потому, что существовал «проект, направленный на то, чтобы иссякли все источники просвещения», чтобы уничтожить «все памятники, прославляющие французский гений, [...] одним словом, чтобы обратить нас в варваров». Проект вандалов, достойный этих «новых иконоборцев», более неистовых, чем прежние. Проект заранее разработанный, не объясняющийся лишь невежеством, которое само по себе не всегда является преступлением. За этим проектом скрывался «контрреволюционный дух».
3. Доклады Грегуара, в свою очередь, предлагали ответ на волновавший всех вопрос: каким образом вандализм мог поразить Революцию в самое сердце и не несет ли она за это ответственность? Грегуар повторяет старое обвинение в адрес «аристократов», «мошенников», «спекулянтов и мятежников». Однако их деятельность не объясняет размаха и систематического характера, который принял вандализм, несмотря на многочисленные декреты революционной власти. Чтобы понять его скрытые причины, необходимо обратиться «к ряду фактов, которые хорошо бы сопоставить». Так, вновь обличаются «прежние заговорщики», разоблаченные еще при Терроре, эбертисты и дантонисты, те, на кого Грегуар намекал еще до Термидора, не называя их тем не менее поименно. На этот раз имена произносятся вслух: Эбер, «оскорблявший большинство нации, извращая язык свободы»; Шометт, «заставлявший выкапывать деревья под предлогом необходимости посадить картофель»; Шабо, «говоривший, что он не любит ученых» и сделавший вместе со своими сообщниками «это слово синонимом слова аристократы». Анрио желал «повторить здесь подвиги Омара [179]в Александрии»; он предлагал сжечь Национальную библиотеку, и «это предложение подхватили в Марселе». И наконец, прозвучало главное имя: Робеспьер, «бесчестный Робеспьер», «жестокий Робеспьер», который «посеял вандализм по всей Республике». До сих пор пугает та скорость, с которой «заговорщики», Робеспьер и его присные, «деморализовали нацию и вернули нас в варварство рабства. В течение одного года они едва не уничтожили созданное за много веков цивилизации [...]. Мы были на краю пропасти». Сюжет картины Франка, спасенной, к счастью, от рук вандалов, оказался, к сожалению, пророческим: «невежество разбивало скульптуры, в то время как вооруженный факелами варвар занимался поджогами». Таким образом, символическая фигура «вандализма» обретала новое воплощение: это был Робеспьер, эксплуатировавший невежество и иконоборчество. Таким образом, его «заговор вандалов» имел двойную цель: атаковать и Революцию, и просветителей. Или, скорее, это были две ипостаси одного и того же глобального проекта, поскольку дело Революции и дело просветителей — это одно дело.
Обвиняя «Робеспьера-вандала», Грегуар в точности следовал той же самой схеме, которая применялась в разгар Террора в мессидоре II года против «эбертизма в искусстве». Если вандалов легко найти «среди нас», это может объясняться только заговором «скрытых врагов». Террористическая схема была просто-напросто развернута против «террористов», что уже само по себе является удивительным феноменом и показывает особенности термидорианского периода. Если перефразировать слова Пейяна (который прятался начиная с 9 термидора, пытаясь избежать репрессий, поскольку был обвинен в «робеспьеризме» и «вандализме»), «вандализм» — это «робеспьеризм в искусстве», продолжение и завершение Террора в сфере культуры. Как мы уже говорили, в схеме заговора фигуры «заговорщиков» взаимозаменяемы. Однако в качестве конкретного воплощения подобной фигуры фантастический образ «заговора вандалов» приобретал новые значения, точно так же, как его эксплуатация и манипуляция им меняла политический и культурный расклад [180].
Доклады Грегуара усиливают и превращают в систему сюжет, проходивший красной нитью через весь политический дискурс, начиная с самого «свержения тирана». В самом деле, в выдумке о «робеспьеристском заговоре», распространяемой термидорианской пропагандой, немалое место принадлежит проникновению этого «заговора» в культурную сферу. Уже 11 термидора в своем первом докладе о «великом дне», который спас Республику от «ужасного заговора», среди других преступлений «факционеров» Барер обличал самую суть их вероломного плана: проект «отравления наиболее ценного источника — общественного образования» [181]. 13 термидора в Якобинском клубе в ходе заседания, на котором распоясавшиеся члены Клуба предавались взаимным упрекам и на котором царило всеобщее недоверие, Ассенфратц воскликнул: «Лежит ли ныне тень Робеспьера на этом зале? Путем личных обвинений этот тиран всех ссорил и разделял, хотел укрепить свой авторитет и деспотически царить над мнениями, хотел удержать нас под своим ярмом [...], Пусть же Клуб займется ныне предметом, в наибольшей степени достойным его внимания: я имею в виду общественное образование, которое тиран постоянно откладывал в долгий ящик, чтобы лучше достичь своей цели: господства над невеждами и слепцами» [182].
Вне всяких сомнений, мы видим здесь очередную вариацию все той же темы: «истинные» якобинцы сами были жертвами «тирана», и теперь они должны сплотить ряды и обеспечить свое единство. Но в равной мере здесь присутствует обвинение, устанавливающее связь между Робеспьером-тираном и Робеспьером-вандалом, между терроризмом и вандализмом. Тем самым появляется возможность представить оба феномена в качестве орудий одного и того же заговора и соответственно, избавиться от них.
Чтобы лучше понять, как функционировал данный дискурс, который одновременно и обвинял, и оправдывал, небезынтересно выделить из потока термидорианской риторики конкретные факты, которые вменялись в вину Робеспьеру и использовались в качестве доказательства его «вандализма». Это отнюдь не просто. Ведь на самом деле образ «Робеспьера-вандала» стал, в особенности после докладов Грегуара, до такой степени стереотипным, что нередко ограничивались либо отсылкой к нему как к вещи очевидной, либо усиливали его риторическими и демагогическими пассажами, как это делал, например, Фрерон, обвиняя «этого нового Омара, желавшего сжечь библиотеки» [183]. Некоторые обвинения были более конкретными. Фуркруа, отличавшийся нападками на «вандализм» «последнего тирана», утверждал: «Он ничего не знал, он вышел из грязи невежества, он собирал доказательства против ряда своих коллег, друзей просветителей и науки, которых он препроводил на эшафот. Последний тиран произнес перед вами пять или шесть речей, в которых с отвратительной искусностью воспитывал отвращение ко всем тем, кто занимался крупными исследованиями, всем тем, кто имел обширные знания».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: