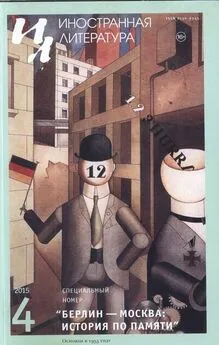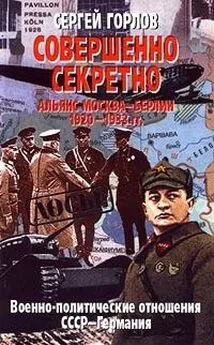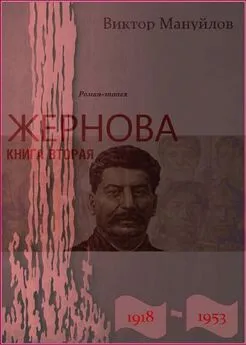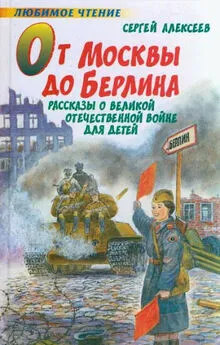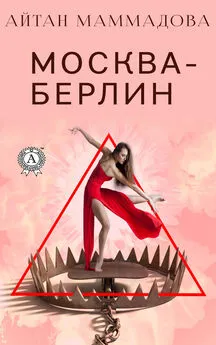Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти
- Название:Москва – Берлин: история по памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти краткое содержание
Открывают номер фрагменты книги «Осеннее молоко», совершенно неожиданно написанной пожилой немецкой крестьянкой Анной Вимшнайдер (1919–1993): работа до войны, работа во время и на фоне войны, работа после войны. Борьба за выживание — и только. Недаром книга носит название бедняцкой баварской еды. Перевод Елены Леенсон.
Следом — «От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений» — фрагменты книги немецкой писательницы и коммунистки, узницы советских и немецких концлагерей Маргарет Бубер-Нойман. Во второй половине 1930-х гг. она со своим гражданским мужем, видным немецким коммунистом и журналистом, живут в Москве среди прочих деятелей Коминтерна. На их глазах крепчает террор и обнажается чудовищная сущность утопии, которую эти революционеры — каждый у себя на родине — изо всех сил идеализировали. Перевод Дарьи Андреевой.
Следующая рубрика — «Мешок на голове» — составлена из очерков, вошедших в книгу «Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей». И открывают эту публикацию «Годы в долг» — мемуарные заметки составителя помянутой книги, ведущего немецкого литературного критика и публициста Марселя Райх-Раницкого (1920–2013). 1930-е годы, Берлин. Нацисты буднично и методично сживают евреев со света. Перевод Ирины Алексеевой.
Герой воспоминаний Георга Хензеля (1923–1996) «Мешок на голове», давших название рубрике, принадлежит не к жертвам, а к большинству: он — рядовой член молодежных нацистских организаций. Но к семнадцати годам, благодаря запрещенным книгам, он окончательно сорвал «мешок» пропаганды с головы. Перевод Ольги Теремковой.
А писатель, журналист и историк Иоахим Фест (1926–2006) назвал свой очерк «Счастливые годы» потому, что такими, по его мнению, их делала «смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления…» Перевод Анны Торгашиной.
В воспоминаниях писателя и художника Гюнтера Кунерта (1929) с красноречивым названием «Мучение» передается гнетущая атмосфера страха и неопределенности, отличавшая детство автора, поскольку его мать — еврейка. Перевод Анны Торгашиной.
В «Упущенной возможности» писательница Барбара Кёниг (1925–2011) сожалеет и стыдится, что лишь ценой собственных невзгод дошел до нее, совсем юной девушки, ужас происходящего в Третьем рейхе: «Мне… не остается ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется „долгом“, и мужественен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается». Перевод Марины Ивановой.
Рубрика «Банальность зла». Отрывок из книги «В ГУЛАГе» — немецкого радиожурналиста военного времени Герхарда Никау (1923) о пребывании на Лубянке. Перевод Веры Менис.
Здесь же — главы из книги немецкого писателя и журналиста Алоиза Принца (1958) «Ханна Арендт, или Любовь к Миру» в переводе Ирины Щербаковой. Обстоятельства жизни выдающегося мыслителя, начиная со Второй мировой войны и до убийства Джона Кеннеди. В том числе — подробности работы Х. Арендт над циклом статей для «Нью-Йоркера», посвященных иерусалимскому процессу над Эйхманом, в которых и вводится понятие «банальности зла»: «у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб».
В разделе с язвительным названием «Бегство из рая» опубликованы главы из автобиографической книги нынешнего посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (1953) «Штемпель в свободный мир» в переводе Михаила Рудницкого. Подлинная история о том, как два студента из ФРГ в 1974 году вывезли кружным путем на Запад по собственноручно изготовленным паспортам трех своих друзей и сверстников из ГДР.
В традиционной рубрике «БиблиофИЛ» — «Информация к размышлению. Non — fiction с Алексеем Михеевым». Речь идет о двух книгах: «О насилии» Ханны Арендт (последняя переводческая работа Григория Дашевского) и «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства».
И в завершение номера — «Библиография: Немецкая литература на страницах „ИЛ“».
Москва – Берлин: история по памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Впрочем, Станойков категорически не согласился с утверждениями журнала о том, что на границе была «кровавая бойня». Он опроверг также публикацию журнала в той ее части, где говорилось о расстреле 25 лет назад целой семьи, включая шестилетнего ребенка. Это, якобы, однозначно следует из протоколов за период с 1966-го по 1968 год.
Пресс-секретарь признал, что захоронения убитых нарушителей границы производились в Болгарии без идентификации покойных. Сообщения о денежных премиях в размере 2000 левов (около 1000 марок по тогдашнему официальному курсу), которые якобы выплачивались посольством ГДР за каждого убитого нарушителя границы, по словам Станойкова, не соответствуют действительности.
Однако бывшие работники посольства ГДР в Софии в разговоре с корреспондентом АДН подтвердили, что за «предотвращенные попытки нарушения границы» премии выплачивались. И, по крайней мере в одном случае, застреленных при такой попытке граждан ГДР сразу же тайно захоронили в Софии.
Еще в феврале 1992 года слухи о расстрелах на болгарской границе стали предметом депутатского запроса в болгарском парламенте. По данным Министерства обороны Болгарии, до 1985 года имели место 339 случаев убийств в районе государственной границы. Министр обороны Луджев среди прочего сказал: «Документов, позволяющих установить, кто конкретно отдал приказ стрелять в нарушителей границы, у нас нет. Однако важно отметить, что по существующим законам и правовым нормам как в армии, так и в частях МВД, а в особенности в подразделениях пограничных войск офицеры и солдаты просто обязаны были в случае попытки нарушения границы в буквальном смысле этого слова стрелять на поражение».
Сенсационные разоблачения журнала «Анти» повлекли за собой дальнейшие расследования, инициированные уже новым болгарским правительством. Выяснилось, в частности, что более 2000 граждан ГДР, пытавшихся бежать через Болгарию на Запад, были арестованы и выданы властям ГДР. В 1971 году, по данным «штази», 62 процента всех попыток побега через социалистические страны были предприняты через Болгарию, в 1972 году — 83 процента. Для раскрытия подобных попыток в помощь болгарским властям была командирована так называемая «оперативная группа по предотвращению торговли людьми», которая еще с 60-х годов вела работу на территории Болгарии и которую с 1970 года в летние месяцы усиливали за счет «группы наблюдения», состоявшей из более чем 20 агентов. Один из опорных пунктов «штази» находился в Несебре…
Приказ стрелять в нарушителей границы существовал в Болгарии с 1952 года. На сей день в рамках исследовательского проекта под руководством политолога Штефана Аппелиуса документально подтверждены 18 случаев убийства граждан на болгарской границе. Среди них — и факт убийства 21-летнего гражданина ГДР, «застреленного 3 сентября 1974 года в километре западнее деревни Калотина, округ Драгомар».
Все события, описанные здесь, имели место в действительности. Имена некоторых лиц изменены, цитаты иногда литературно обработаны. Все высказывания автора выражают его личную точку зрения и не имеют отношения к его служебной деятельности. Особой благодарности заслуживает Томас Карлауф, существенно способствовавший превращению этой истории в книгу.
Информация к размышлению с Алексеем Михеевым
«Новое издательство» выпустило книгу одного из самых ярких политических мыслителей ХХ века Ханны Арендт О насилии (пер. с англ. Г. М. Дашевского. — М.: 2014. — 148 с.). Книга эта была написана в самом конце 60-х, сразу после массовых протестных волнений в Европе (прежде всего во Франции), которыми был отмечен 1968 год. Но несмотря на то, что с тех пор прошло почти полвека, размышления Арендт, как это ни парадоксально, для нас звучат актуально именно сейчас. Дело здесь в том, что именно сейчас для них сложился внутренний политический контекст: последние несколько лет, увы, сделали тему насилия одной из центральных в нашей текущей повестке дня.
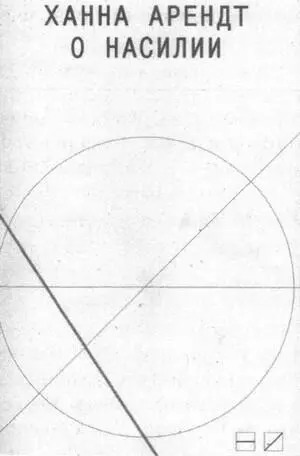
Мы, как правило, ассоциируем насилие с властью; Арендт же пытается преодолеть этот стереотип обыденного мышления, с целью чего подвергает сопоставительному анализу другие понятия из того же семантического ряда: силу, мощь и авторитет. При таком подходе картина получается более сложной: обязательными атрибутами власти являются сила и мощь, а вот поддерживать их власть может при помощи либо авторитета, либо насилия. В том обществе, где существует консенсус относительно делегирования социальных полномочий конкретной власти (как это было в античных греческих демократиях), она не нуждается в насилии; насилие в отношениях между властью и обществом появляется там и тогда, где и когда такого консенсуса нет.
Если рассматривать противостояние власти и протестных движений, то ситуация с насилием здесь, по меньшей мере, симметрична; даже более того, именно оппозиция, ставящая своей целью изменение социального статус-кво, неизбежно оказывается вынуждена прибегать к насилию для достижения цели. При этом инерция революционного насилия такова, что если революция побеждает, то насилие не исчезает, а, как показывает практика, напротив, — становится атрибутом новой власти, инструментом борьбы с контрреволюционерами и прочими врагами.
Еще одно актуальное рассуждение Ханны Арендт касается не революций, а войн. Подвергая сомнению хорошо известное высказывание Карла фон Клаузевица о том, что война есть продолжение политики иными средствами, она утверждает обратное: политика мирного времени есть продолжение войны иными средствами. Иначе говоря, вовсе не мир, а война является основным, базовым состоянием человеческого общества. При этом Арендт делает вывод, что воля отдельных субъектов этой перманентной войны не столь важна, как совершенствование потенциальных средств ее ведения: «Техническая эволюция орудий насилия достигла сейчас такой стадии, что уже невозможно представить какую бы то ни было политическую цель, которая соответствовала бы их разрушительному потенциалу или оправдывала бы их практическое применение в вооруженном конфликте». И те же самые прошедшие с момента выхода книги полвека подтверждают этот вывод: между основными субъектами глобального противостояния ведется — при наличии у них средств массового взаимного уничтожения — только «холодная» война; а вот настоящие, «горячие» войны идут там, где таких средств нет.
Вышеописанные рассуждения, конечно же, являются лишь предпосылками, отправными точками для достаточно сложных социофилософских построений Ханны Арендт. И, безусловно, особой похвалы заслуживает в этой связи перевод, в котором высочайший интеллектуальный уровень сочетается с абсолютной ясностью изложения. Увы, эта книга стала последней опубликованной переводческой работой Григория Дашевского.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: