Владимир Земцов - Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres]
- Название:Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Яуза
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-094910-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Земцов - Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres] краткое содержание
НОВАЯ КНИГА ведущего исследователя Наполеоновской эпохи впервые позволяет взглянуть на Бородинское сражение глазами противников русских войск. Эта фундаментальная работа на основе широкого комплекса источников не только тщательно реконструирует действия Великой армии Наполеона в ключевые моменты величайшей битвы – самой кровопролитной в истории среди однодневных сражений, но и впервые во всех подробностях восстанавливает механизмы функционирования этой сложнейшей военной машины в 1812 году, отвечая на самые спорные вопросы. Каково было устройство, комплектование и состав Великой армии? Каковы были униформа и оружие? Что собой представлял ее офицерский корпус? Какое влияние здоровье и быт Наполеона в ходе Русской кампании оказывали на решения французского главнокомандующего? Что заставляло наполеоновского солдата идти в бой, драться и умирать под Бородином? Как тяготы Русской кампании расшатывали армейскую дисциплину и обостряли межнациональные взаимоотношения в Великой армии? Наконец, сочетание каких факторов привело к полному поражению наполеоновской армии в России?
Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
О том, как удивительно менялись люди разных наций, попадавшие в состав Великой армии, говорит их переписка. Основная масса писем, отправленных из главных сил армии и хранящихся в российских архивах, относится уже к периоду сентября – ноября 1812 г. и поэтому уже несет на себе отпечаток распада многонационального военного организма, который создавал Наполеон. Но письма с родины или отправленные из других частей, находящихся вне России, позволяют составить представление о тех внутренних процессах, которые действовали до сентября 1812 г. и которые, по замыслу императора, сплачивали воинов [703]. Сразу бросается в глаза обширнейшая география личных связей солдат Великой армии – от Испании и Северной Италии до глухих мест французской провинции и небольших германских местечек. Письма, как правило, находили своих адресатов (исключая, конечно, ситуацию с большинством тех писем, к которым мы обратились, так как они были перехвачены русскими). Так, много посланий, отправленных из Испанской армии от бывших сослуживцев, прибывало вначале в те места, где перед походом в Россию части располагались (в Германию или в Италию). Не найдя адресата, они немедленно, помеченные штемпелем, пересылались дальше, вслед за армией. Адреса не обязательно писались по-французски. Отправитель писал по-итальянски, по-голландски, по-немецки, причем нередко свободным почерком и не всегда предельно точно указывая адрес. Он был уверен, что письмо все равно придет по назначению – ведь в адресе было указано: «Великая армия»! Особенно забавно указывали адрес итальянцы, предпочитая вместо слова «солдат» писать «Militare» или «Cariere militare». И французы, и итальянцы в любом случае неизменно перед чином, в том числе солдатским или сержантским, обязательно указывали «Monsieur» или «Seigneur». Множество писем было написано по-итальянски с французскими словами, на французском – с итальянскими выражениями; немецкий высокопоставленный офицер мог написать письмо по-французски с приписками по-итальянски. Воины разных наций, постоянно соприкасаясь друг с другом, меняя места своей службы, «завязывая» многочисленные «узелки» между собой, неизбежно учились понимать друг друга.
И все же позитивный вектор во взаимоотношениях солдат многочисленной армии не мог заслонить того напряжения, которое возрастало по мере подготовки к войне с Россией и с началом военных действий. Это определялось рядом обстоятельств. Во-первых, сама национальная политика Наполеона преследовала в первую очередь утилитарные, чисто военные задачи и только затем принимала в расчет долговременные политические последствия. Поэтому неудивительно, что рано или поздно происходило разочарование иностранных солдат в Наполеоне как всеевропейском сюзерене. Это испытывали даже поляки, наиболее последовательные сторонники Наполеона, видя, как тот цинично использует их национальные чаяния, полностью подчинив польскую проблему задачам внешней политики Франции [704]. Переломным стал 1812 г. По подсчетам Б. С. Абалихина, к маю 1813 г. на русской службе числился уже 11 421 бывший польский военнослужащий [705].
Принятый в наполеоновской армии механизм адаптации иностранцев был нередко груб и прямолинеен. Скажем, Даву, беспокоившийся о духе молодых солдат, «разговаривающих по-немецки», смог порекомендовать генералу Фриану только одно средство: приказать офицерам и унтер-офицерам объяснить, что ждет солдат в случае их дезертирства [706]. Многие необдуманные решения и назначения, принимавшиеся Наполеоном в начале Русского похода, больно затрагивали национальные чувства иностранцев. Так, в конце июня император полностью раскассировал вюртембергский корпус, низведя кронпринца Вильгельма до положения обычного дивизионного командира. Когда Вильгельм заболел и оставил командование, ему на смену был назначен французский генерал Ж.-Г. Маршан, хотя у вюртембержцев, собственно, был и свой командир генерал-лейтенант И. Г. Шелер. Так, находясь под контролем природного француза, Шелер и должен был вести в бой своих солдат в день Бородинского сражения. То же было в 14-й кавалерийской бригаде, где французскому генералу Ф. О. Бëрману должен был подчиняться вюртембергский генерал К.Л. фон Бройнинг [707]. Необдуманное назначение французского генерала командующим над немецким контингентом имело особенно пагубные последствия для морального состояния 8-го (вестфальского) корпуса. Лоссберг не раз писал о том, насколько подавляюще действовал на него факт командования корпусом Жюно. «Зачем я свои лучшие годы службы, – сетовал профессиональный солдат, – провожу в корпусе, который при таких обстоятельствах не может быть уважаем ни нами, ни неприятелем» [708].
Когда Наполеон все же спохватывался, стремясь соблюсти «вежливость» в отношении иностранцев, оказывалось слишком поздно. В Вильно император вдруг захотел произвести несколько лейтенантов гвардии, говорящих по-немецки, в капитаны, направив их в армейские части. Но в гвардии не нашлось ни одного лейтенанта и даже сержанта, происходившего из прирейнских земель [709]. Начавшиеся еще до открытия военных действий и тем более углубившиеся в России, трудности со снабжением войск вызвали резкое обострение национального эгоизма, особенно со стороны высшего французского командования. Солдаты нефранцузских войск со все возраставшим раздражением обнаруживали, что все магазины для них были закрыты. Обычно они получали ответ, что магазины предназначаются только для гвардии и французских частей. Тогда начиналось подчас жестокое, соперничество между самими нефранцузскими частями за то, что еще можно было «урвать». Дерясь друг с другом, все между тем посылали проклятия французам.
Во-вторых, все народы, представленные в Великой армии, имели свои неискоренимые национальные особенности, нередко сопротивлявшиеся «перевариванию» в чреве военного организма. Эти особенности были многообразны – от языка до религиозных воззрений и темперамента. Первое, что бросалось в глаза, были языковые барьеры. Несмотря на широкое распространение французского языка, он не мог быть быстро освоен многотысячными массами рядового и даже офицерского состава армий многих европейских стран. Там же, где французские военачальники стремились заигрывать с иностранцами, используя их язык, выходило не всегда убедительно. Многие вспоминали, как во время Бородинского боя Мюрат кричал вюртембержцам по-немецки, чтобы они стреляли. У него получалось то ли «Scheuss», то ли «Schüß», и это вызывало смех. Но когда он, коверкая слова, начал хвалить немецких стрелков, говоря «мерзкий егерь», это уже воспринималось только с раздражением [710]. Русская кампания, которая потребовала напряжения всех человеческих сил, обнажила и природные, биологические различия европейских народов. Во время боя, на маршах и в госпиталях эти различия хорошо улавливались медиками Великой армии. Воспоминания каждого из них о русском походе пестрят рассуждениями о том, как организм людей разных наций по-разному себя проявлял. Главный хирург Д.-Ж. Ларрей, например, составил следующее представление о национальных темпераментах. Блондины, которых было много среди немцев и голландцев, имевшие флегматический темперамент, хотя и являлись, по словам Ларрея, «сынами Севера», хуже других переносили холод. Сангвинический же темперамент, часто встречавшийся среди южан, наоборот, способствовал преодолению холода и физических трудностей. Доля немцев и голландцев, погибших от холода в 1812 г., оказалась значительно бóльшей, чем французов. Так, голландцы 3-го полка гренадеров гвардии погибли почти все без исключения, в то время как два других полка гренадеров, составленных из французов центральных департаментов, сохранили большинство своих людей [711]. Наблюдения медиков в 1812 г. показали, что предрасположенность или сопротивляемость дизентерии и тифу также зависели от национальной принадлежности. Немцы заболевали дизентерией и тифом в значительно бóльшей степени, чем французы. Врачи это объясняли более нервным национальным характером [712].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Владимир Земцов - Великая армия Наполеона в Бородинском сражении [litres]](/books/1066223/vladimir-zemcov-velikaya-armiya-napoleona-v-borodins.webp)

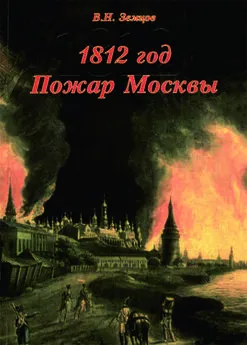


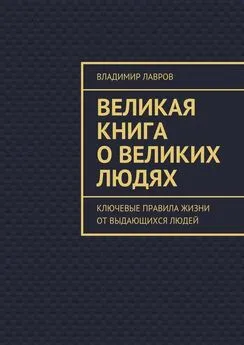


![Виктор Устинов - Великая Армия, поверженная изменой и предательством [К итогам участия России в 1-й мировой войне]](/books/1100222/viktor-ustinov-velikaya-armiya-poverzhennaya-izmenoj-i-predatelstvom-k-itogam-uchastiya-rossii-v-1-j-mirovoj-vojne.webp)

