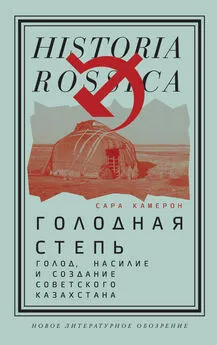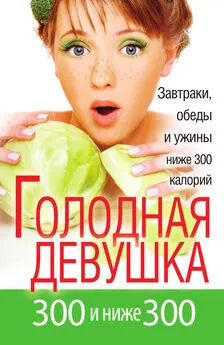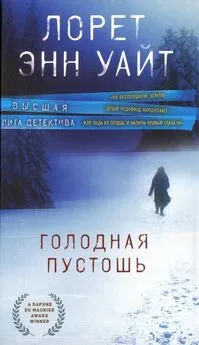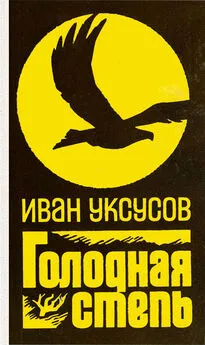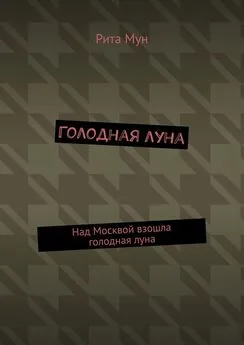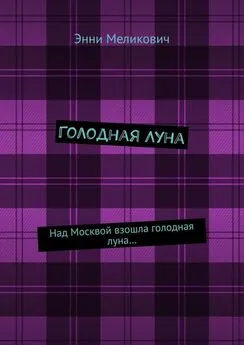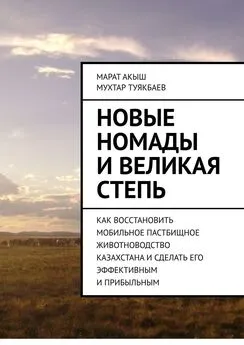Сара Камерон - Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана
- Название:Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444814079
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сара Камерон - Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана краткое содержание
Голодная степь: Голод, насилие и создание Советского Казахстана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Но в пограничных районах Казахстана положение к концу 1930 года было более отчаянным и вместе с тем более неустойчивым 647 647 Некоторые казахстанские ученые исследовали роль китайско-казахстанской границы в ходе казахского голода. См.: Омарбеков Т. 20–30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. С. 272–281; Idem. Қазақстан тарихының ХХ ғасырдағы өзекті мәселелері. С. 271–282. (Омарбеков – один из немногих казахстанских ученых, получивших доступ к бывшим архивам госбезопасности в Казахстане.) См. также: Мендикулова Г.М. Казахская диаспора. С. 132–136; Аблажей Н.Н. Казахский миграционный маятник «Казахстан–Синьцзян»: эмиграция, репатриация, интеграция. Новосибирск, 2015. С. 34–45. Кроме того, существует несколько мемуарных источников, в том числе: Shayakhmetov М. The Silent Steppe. P. 39–44; Петров В.И. Мятежное «сердце» Азии: Синьцзян. Краткая история народных движений и воспоминания. М., 2003 (репринтное издание). С. 324–325. Границам в Средней Азии периода первой пятилетки исследователи уделяли мало внимания. Исключением является рассказ Адриенны Эдгар о туркменско-афганской границе: Edgar A.L. Tribal Nation. Р. 213–220. По-видимому, на туркменско-афганской границе насилия подобного уровня не было, причиной чему, вероятно, служило гораздо менее отчаянное экономическое положение Туркмении по сравнению с Казахстаном.
. К этому моменту массовыми восстаниями были охвачены и Казахстан, и Украина, однако казахские повстанцы могли использовать политическую нестабильность Синьцзяна, чтобы находить убежище, перегруппировываться и планировать новые нападения. В то же самое время сотни тысяч голодающих также начали искать укрытия в Синьцзяне, и сдерживание этих мирных беженцев, движущегося населения, привычного к сезонным миграциям со своими стадами, было задачей, совершенно не похожей на контроль за оседлым населением Украины и Белоруссии. Более того, кочевники, уходя из Казахстана, забирали с собой свой скот. Отбытие большого числа людей являлось и само по себе очень тревожным обстоятельством как с политической, так и с экономической точки зрения. Но все было еще хуже: стремительно сокращалось количество животных, необходимых для обрабатывания земли и транспортировки грузов, и это серьезнейшим образом угрожало планам советской власти по трансформации сельского хозяйства.
В годы первой пятилетки граница с Китаем стала местом особенно ожесточенных схваток. Масштабы кровопролития привели к тому, что два региона, прежде между собой неразрывно связанные, оказались изолированы друг от друга. На протяжении долгого времени Восточный Казахстан и территория, ныне известная как Синьцзян («Новая граница»), были соединены узами географии, родства, религии и торговли. Синьцзян отделен от Центрального Китая огромным расстоянием и могучими природными барьерами – горами и пустынями; казахстанско-синьцзянское пограничье изолировано в еще большей степени. Несколько речных долин в Джунгарии, полупустынном северном районе Синьцзяна, открывали доступ в Казахскую степь. Долина реки Эмель вела в Центральный Казахстан, в том числе в Караганду, а долина Иртыша открывала прямую дорогу на Семипалатинск – один из немногих городов Казахстана. Плодородная долина реки Или тоже была легкодоступной с западного направления, из Казахстана, при этом будучи в большой степени изолированной от остального Синьцзяна Тянь-Шанем и хребтом Боро-Хоро.
Географическое положение Синьцзяна было исключительным. На протяжении XIX – начала XX века он являлся важнейшим театром «Большой игры» – стратегического соперничества Британской и Российской империй за лидерство в Центральной Азии. К началу XX века Синьцзян граничил с семью различными государствами и советскими республиками: с Россией на севере, с Монголией на востоке, с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном на западе, с Афганистаном и Индией на юге. Географ Оуэн Латтимор, впечатленный стратегической важностью Синьцзяна, дал ему знаменитое определение – «стержень Азии» («pivot of Asia») 648 648 Lattimore О. Pivot of Asia: Sinkiang and the Inner Asian Frontiers of China and Russia. Boston, 1950.
.
Китайско-казахстанское пограничье представляло собой сложное смешение народов и образов жизни, мусульман и немусульман, кочевников и оседлого населения 649 649 В 1940 году, согласно подсчетам Эндрю Д.У. Форбса, в Синьцзяне насчитывалось 3439 тысяч мусульман и 200 тысяч китайских поселенцев. Среди мусульман 2941 тысячу составляли уйгуры, 319 тысяч – казахи и 65 тысяч – киргизы. См.: Forbes A.D.W. Warlords and Muslims in Chinese Central Asia: A Political History of Republican Sinkiang, 1911–1949. Cambridge, 1986. Р. 6.
. Синьцзян населяли многочисленные тюрки-мусульмане, которых и в СССР, и в Китае считали уйгурами и казахами 650 650 В начале 1930-х годов, при генерал-губернаторе Шэн Шицае, вопреки идеологии Гоминьдана Синьцзян признавал четырнадцать этнических групп, в том числе казахов, уйгуров и таранчей (жителей Северного Синьцзяна, которые в настоящее время тоже причисляются к уйгурам). Шэн Шицай прибег к ряду стратегий, сходных с советской политикой коренизации, продвигая вперед этнические элиты, а также поддерживая образование и публикацию книг на родных языках. См.: Millward J.A. Eurasian Crossroads: A History of Xinjiang. London, 2007. Р. 207–209. О конструировании уйгурской идентичности китайскими чиновниками см.: Rudelson J.J. Oasis Identities: Nationalism along China’s Silk Road. New York, 1997. Р. 4–7. В ходе дискуссий, связанных с оформлением советской переписи 1926 года, уйгуры не сразу получили признание как отдельная национальность. На первых порах их национальная принадлежность стояла под вопросом из-за предполагаемого смешанного происхождения уйгуров, но в окончательной версии переписи их существование официально признали. См.: Hirsch F. Empire of Nations. Р. 131, 133.
. Эту часть Центральной Азии, включавшую и Синьцзян, традиционно определяли как часть «Туркестана» – данный термин использовался, чтобы отличить территории, населенные тюркоязычными кочевниками, от ираноязычных территорий дальше к югу. Впоследствии возникло деление на «Русский Туркестан» и «Китайский Туркестан» – на западные земли, подвластные русскому царю, и восточные, где правила Цинская династия 651 651 Millward J.A. Eurasian Crossroads. P. IX.
. Синьцзян был преимущественно мусульманским регионом: уйгуры и другие мусульмане были здесь куда более многочисленны, чем поселенцы-хань из Китая.
При царях и императорах местные жители оставались в тесном контакте со своими единоверцами по другую сторону границы, с которыми их соединяло множество связей. Суфии и ученые Семипалатинска, важнейшего центра исламского образования в восточной части Казахской степи, были связаны с сообществами Китайского Туркестана 652 652 Frank A.J., Usmanov M.A., eds. Materials for the Islamic History of Semipalatinsk. P. 1.
. Джадидизм, исламское реформистское движение, возникшее в Российской империи, процветал в Синьцзяне благодаря влиянию татар-мусульман 653 653 Millward J.A. Eurasian Crossroads. P. 170–177.
. После возникновения Китайской Республики и Советского Союза сети пантюркизма позволили создать ощущение единства вопреки государственным границам. Связь с Синьцзяном поддерживали и басмачи, не прекращавшие партизанскую войну в советской Средней Азии; нередко они искали убежища на землях, подвластных Китаю.
Интервал:
Закладка: