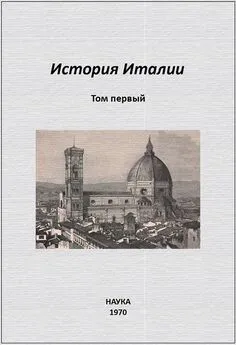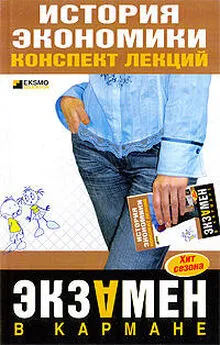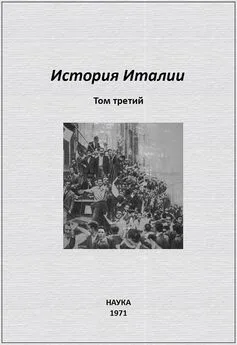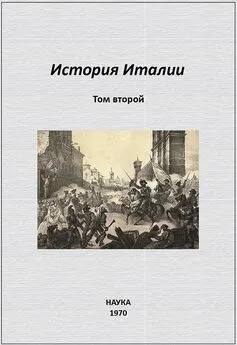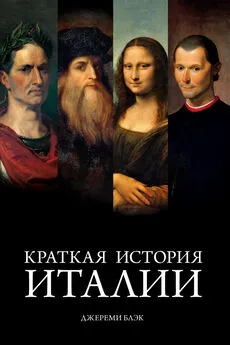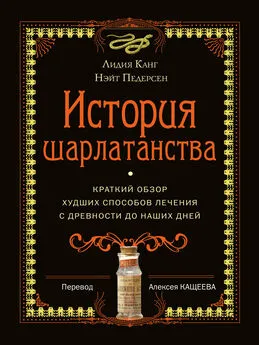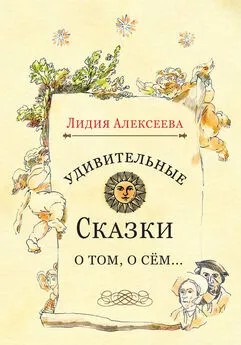Лидия Брагина - История Италии. Том I
- Название:История Италии. Том I
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1970
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лидия Брагина - История Италии. Том I краткое содержание
Первый том «История Италии» освещает события с V до XVIII в. В нем рассказывается о средневековом городе и деревне, о развитии феодализма и появлении в его недрах ростков капиталистических отношений, о периоде Ренессанса, с которым связан невиданный расцвет науки, искусства, литературы. Однако вслед за блестящим взлетом эпохи Возрождения наступает пора феодальной реакции. Раздробленная страна, подвергающаяся иноземным нашествиям, переживает упадок. Лишь в XVIII в. обнаруживаются признаки подъема. О последних веках средневековья повествуется в главах, завершающих книгу.
История Италии. Том I - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Если проследить словоупотребление Эдикта, то можно прийти к заключению, что термины servi (или mancipia ) и originarii близки друг к другу по смыслу, а колоны в тесном смысле слова, т. е. за исключением оригинариев, рассматриваются как прослойка зависимого населения, не тождественная с той, которая обозначается, как оригинарии; иными словами, под колонами Эдикт разумеет тех, кого в Позднеримской империи обозначали как coloni liberi , а под оригинариями — coloni originarii , но без прибавления слова coloni . Оригинарии неоднократно сопоставляются в Эдикте с рабами и рабынями ( servi, ancillae ). Особенно показательно такое сопоставление в тех параграфах, в которых трактуются казусы, относящиеся к рабам и оригинариям вместе, но не применяемые к колонам в широком смысле слова. Термин originarii разъяснен в § 68 Эдикта, заимствованном из кодекса Феодосия. В параграфе указано, что женщина-оригинария — это та, которая прикреплена к месту своего рождения ( de ingenuo solo ): в случае, если она его покинет, ее следует возвращать обратно в течение 20 лет, а ее потомство должно принадлежать ее прежнему господину, даже если в течение этих 20 лет она была под властью другого господина и сделалась его собственностью. Тем не менее за некоторые преступления оригинарии наказываются так же, как и все остальные категории зависимого населения: за умышленный поджог дома или виллы оригинариев наравне с сервами и колонами осуждали на смертную казнь через сожжение — в противоположность свободным, которые лишь возмещали убыток, а в случае бедности подвергались телесным наказаниям и ссылке.
Однако в целом ряде предписаний Эдикта имеются в виду колоны в широком смысле слова, и тогда рабы и колоны сопоставляются друг с другом в качестве непосредственных производителей, т. е. мелких зависимых земледельцев. Так, за уничтожение границ владений без ведома господина колонам наравне с рабами грозит смертная казнь; господин в равной мере отвечает за грабежи и захваты, учиненные рабом или колоном без его ведома; долги колона или раба, сделанные без разрешения господина, взыскиваются из пекулия раба или колона. В этих и многих других случаях Эдикт не проводит различия между рабом и колоном, но не потому, что он их отождествляет, а потому, что трактует их как представителей зависимой рабочей силы, находящихся под властью господина и живущих на его земле, т. е. рассматривает колонов в широком смысле, без разграничения разных категорий. Но мы знаем, что низшая их категория — оригинарии — стояли ближе к сервам, чем остальные колоны, ибо оригинарии произошли от рабов.
Анализ терминологии Эдикта убеждает в том, что в § 142 термин originaria является спецификацией определенного разряда рабов или несвободных (mancipia), а не обозначением колонов вообще… Выражение же mancipia etiamsi originaria следует переводить так: «несвободные (или рабы), хотя бы они (или: если даже, пусть даже они) и были оригинариями» (ибо etiamsi не означает «такие»). При таком переводе станет очевидным, что нововведение Теодориха, (сформулированное в § 142) не произвело резкого изменения в положении всех колонов, и правы те исследователи (Д. М. Петрушевский, 3. В. Удальцова), которые считали, что оно относится лишь к сельским рабам и к происшедшей из них низшей категории колонов.
Наряду с колонами и рабами в остготской Италии сохранилось немало римских лично свободных крестьян, наличие которых тоже составляет пережиток позднеримских отношений.
Как уже указывалось выше, эти крестьяне, которые обозначаются обычно как ingenui , т. е. свободные, подвергаются разорению, впадают в зависимость и даже в рабское состояние; идет даже своеобразная торговля свободными, продаваемыми в рабство, а кроме того, многие свободные принуждены отказываться от собственной свободы и даже скрывать свое свободное состояние. Такие явления, по-видимому, происходят главным образом, в среде римского населения.
Тем более показательно, что наряду с этим в Италии VI в. сохраняются остатки крестьянства, не обозначаемого малоговорящим — в свете указанных выше процессов — термином ingenui , а выступающего как совокупность земледельцев, т. е. лиц, занимающихся сельскохозяйственным трудом, но не приписанных к участку, подобно coloni originarii . Они фигурируют под собирательным названием rustici , которое может реально относиться к весьма различным слоям населения (кроме рабов). Так, согласно некоторым статьям Эдикта Теодориха, rustici принадлежат к зависимым людям землевладельца, именуемого их господином, и к ним прямо прилагается эпитет «чужой» ( rusticus alienus ), причем rusticus противопоставляется рабу ( servus ). Однако тут же указывается, что с чужого rusticus ’a нельзя требовать выполнения повинности и запрещается пользоваться его рабом и быком без его согласия. Отсюда следует, что зависимые крестьяне, обозначаемые как rustici , могли в свою очередь иметь зависимых от них несвободных людей. В предисловии Эдикта о закреплении за новыми хозяевами права собственности на беглых куриалов, коллегиатов или рабов по истечении срока 30-летней давности подчеркнуто, что тот порядок нарушают во вред господина rustici и куриалы: здесь, по-видимому, термином rustici названы различные слои зависимого крестьянства — в отличие от куриалов.
Термин rustici означал деревенских жителей-земледельцев в предписании Аталариха от 527 г., адресованном в «Вариях» правителю Аукании и Бруттии Северу по поводу их беззаконных нападений на торговцев. Предписание указывает на какую-то связь rustici с торговцами, которая не обязательно выражалась только во враждебных действиях и ограблениях, но, очевидно, могла приобретать и характер мирных торговых сношений [35] Cassiod., Variae, VIII, 33, 1.
. То обстоятельство, что rustici подвергаются телесному наказанию, еще не говорит об их несвободном положении, ибо, как мы знаем из Эдикта Теодориха, и на свободных, принадлежащих к разряду humiliores , распространяются подобные наказания. Если и можно сделать вывод, что в данном тексте имеются в виду обедневшие свободные (т. е. те, которые в Эдикте обозначаются как humiliores ), то в других случаях оказывается, что с rustici можно взыскать сумму в 400 солидов, как, в частности, сделал в 507–511 гг. некий магнат Венанций, вымогавший деньги для уплаты долга. Теодорих приказал сайону Фрумариту прекратить злоупотребления Венанция [36] Cassiod., Variae, II, 13, 2.
. Однако самая возможность получения указанной суммы свидетельствует не только о превышении власти крупным землевладельцем-патроном, но и о каких-то связях с рынком самих rustici .
У Кассиодора rustici иногда зависимые земледельцы, которые могли становиться даже управителями на землях королевских патримоний, как, например, в «Формуле графу патримонии». Однако из этой Формулы, вопреки Дану, нельзя сделать вывод, что слово rustici здесь означает королевских колонов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: