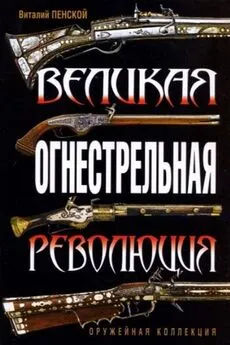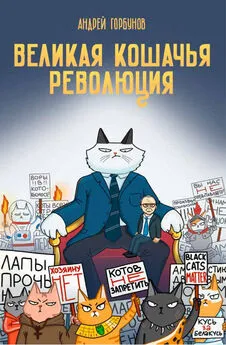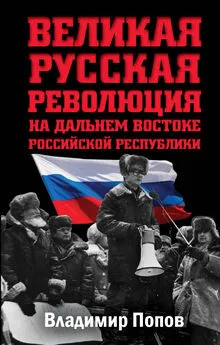Михаил Барг - Великая английская революция в портретах ее деятелей
- Название:Великая английская революция в портретах ее деятелей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1991
- Город:М.
- ISBN:5-244-00418-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Барг - Великая английская революция в портретах ее деятелей краткое содержание
Великая английская революция в портретах ее деятелей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Одним словом, в английской деревне в классической форме проявила себя последовательность во времени и тесная взаимосвязь двух процессов — обезземеливания крестьянства и формирования класса капиталистических арендаторов; в этом и заключалась суть, с одной стороны, так называемого первоначального накопления в деревне и, с другой — генезиса капиталистического уклада в сельском хозяйстве, превращения деревни в рассадник крупной, предпринимательской аренды [16] Многие предприимчивые лендлорды предпочитали самостоятельно вести нацеленное на рынок хозяйство в своих доменах и — более того — снимать дополнительно крупные аренды в других манорах.
.
Инфляционная конъюнктура цен, в особенности на сельскохозяйственные продукты, обусловила в предреволюционной деревне ситуацию острого земельного голода. Если в 30-е годы XVI века акр земли приносил лендлорду ежегодно 5–6 пенсов ренты, то 100 лет спустя (1630-е годы) рыночная рента за тот же акр уже составляла 4–5 шиллингов, т. е. его годовая «стоимость» возросла в 8–10 раз.
Высокая рыночная конъюнктура стимулировала введение агротехнических новшеств, преследовавших цель повысить продуктивность полей, лугов и пастбищ. Естественно, что этот процесс «улучшения» коснулся прежде всего агрикультуры графств, тесно связанных с крупными рыночными центрами, и в особенности с Лондоном. Так, в первой половине XVII века здесь распространяется практика известкования почвы, удобрения ее морским илом и торфом, в севооборот вводятся сеяные травы (клевер) и корнеплоды (турнепс, морковь), масличные культуры (рапс, сурепица), красители (вайда, шафран), лен и конопля. В широких размерах проводится мелиорация лугов и пастбищ, развертывается осушение так называемой Великой равнины болот (в центральных и северо-восточных графствах). Целенаправленно улучшаются породы скота. В целом труд земледельца стал намного производительнее. Так, в сравнении с началом XVI века в среднем в 2 раза возросла урожайность злаковых культур. Однако несомненные свидетельства интенсификации сельского хозяйства были в социальном плане неоднозначными. Улучшения требовали значительных затрат и были доступны главным образом лордам и зажиточной верхушке деревни. С другой стороны, не уверенные в своем владельческом титуле копигольдеры (равно как и краткосрочные арендаторы) воздерживались, естественно, от подобных дорогостоящих начинаний. Малоимущей же части земледельцев они вовсе были не под силу. Очевидно, что сохранение власти лендлордов над наделами основной массы земледельцев тормозило развертывание агрикультурной революции вширь.
Между тем социально-экономические последствия такой революции в тех условиях были враждебны интересам средних и малоимущих слоев поземельно-зависимого крестьянства, поскольку они отрицательным образом влияли на устойчивость владельческих титулов и хозяйств этих категорий. Инфляционная рыночная конъюнктура на продукты сельского хозяйства и связанный с нею оживленный земельный рынок приводили к тому, что следствием всякого рода улучшений являлись огораживания общинных земель и резкое повышение держательских рент. Естественно, что новые собственники, приобретшие эти земли за наличные, были меньше всего склонны считаться с «незапамятными» традициями в отношениях с обычными держателями [17] Слой вечнонаследственных копигольдеров, условия держания которых оставались неизменными, был крайне малочисленным и локализовался главным образом на востоке и юге страны.
.
О масштабах этого процесса свидетельствуют следующие данные: из 2500 обследованных английским историком Р. Тауни маноров, расположенных в семи графствах, в период между 1561–1600 гг. отчуждался каждый третий манор. В гораздо большей пропорции происходила смена их владельцев в период между 1601–1640 гг. Продавцами земли выступали корона [18] Между 1530–1640 гг. корона продала в частные руки земельные владения на сумму 6,5 млн ф. ст. В результате столь интенсивной распродажи домен английской короны был в 1603 г. намного меньшим, чем в 1500 г.
, представители разорившихся знатных родов и обедневшего джентри. Между 1558 и 1602 гг. в пределах 12 графств Средней Англии пэры продали 28 % принадлежавших им маноров. Хотя число пэров между 1558–1642 гг. увеличилось в 2 раза, они в 1642 г. владели меньшим числом маноров, чем в 1558 г.
Помимо разбогатевших представителей джентри покупщиками коронных земель и владений знати выступали «денежные мешки», прежде всего Лондона [19] В 1625 г. Сити Лондона — основному кредитору короны — было передано коронных земель на сумму 216 310 ф. ст.
, представители так называемых свободных профессий (юристы, врачи и др.), наконец, разбогатевшие цеховые мастера и т. п. Оживленный земельный рынок содействовал мобилизации земли и в среде держателей крестьянского типа. Жалобы на жадность тех, кто собирает несколько дворов в одни руки, раздавались в Англии с начала XVI века. Естественно, что следствием этого процесса должно было явиться, с одной стороны, сокращение числа надельных дворов и укрупнение держаний, а с другой — увеличение численности безнадельных .
На почве мобилизации земли в манорах и обострившегося вследствие этого земельного голода в них развилась система субдержаний и субаренды. Крупным держателям было выгоднее сдавать клочки своих держаний в субдержание или субаренду, чем обрабатывать их, — столь высокими были земельные ренты. Но сама эта возможность свидетельствовала о том, сколь велико было число сельских жителей, которым уже не хватало держаний в маноре и которые соглашались на положение «подсуседков» у владельцев надельных дворов.
Другим важным фактором, содействовавшим подрыву позиций крестьянства в аграрном строе предреволюционной Англии, являлось стремление лендлордов регулировать рентные платежи, основываясь на состоянии рыночной конъюнктуры. Очевидно, что для массы традиционных держателей это означало многократное повышение рентных повинностей. Как уже отмечалось, наиболее критическим в этих условиях оказывалось положение копигольдеров «на срок».
Хотя, по некоторым предположениям, две трети культивировавшейся в стране площади считались фригольдом (юридический статус которого был близок к частной собственности) и только одна треть — копигольдом, это еще отнюдь не значит, что соотношение фригольдеров и копигольдеров среди крестьян было таким же. Все дело в том, что земля, значившаяся фригольдом для владельцев в манорах большей части страны, в своей львиной доле отнюдь не сдавалась на этом праве тем, кто ее обрабатывал. Имеются основания считать, что для большей части держателей крестьянского типа в северо-западных, юго-западных и частично центральных графствах типичным являлось земельное держание на праве копигольда и только в графствах Восточной и Северо-Восточной Англии удельный вес мелких фригольдеров был в 2 раза выше, чем в других регионах страны, и тем не менее и здесь уступал численности копигольдеров [20] Чтобы судить о роли копигольда в судьбе английского крестьянства к началу XVII века, приведем следующие данные:
.
Интервал:
Закладка:

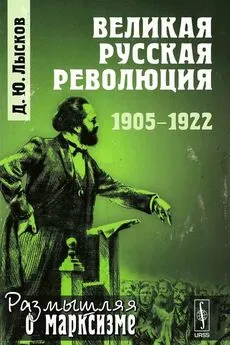
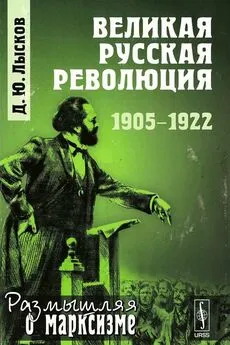

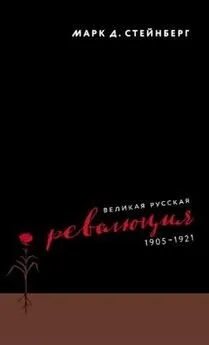
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)