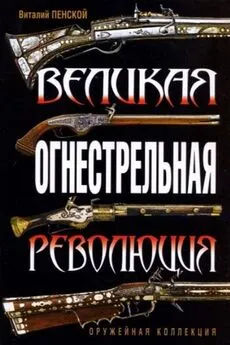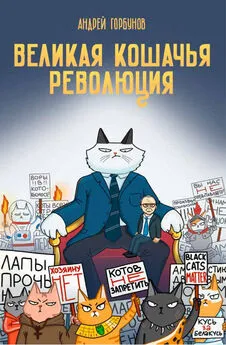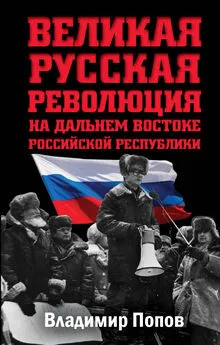Михаил Барг - Великая английская революция в портретах ее деятелей
- Название:Великая английская революция в портретах ее деятелей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1991
- Город:М.
- ISBN:5-244-00418-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Михаил Барг - Великая английская революция в портретах ее деятелей краткое содержание
Великая английская революция в портретах ее деятелей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Так, к примеру, суконщик Томас Рейнольдс из Колчестера снабжал сырьем на дому 400 прядильщиц, 52 ткача, 33 ремесленников других специальностей. Из трех основных сукнодельческих районов Англии XVII века — северного, западного и восточного — капиталистические формы работы на дому господствовали в последних двух, поставлявших шерстяные ткани на экспорт (в восточных графствах Норфок, Сэффок, Эссекс производились преимущественно тонкие крашеные сукна, технология выработки которых была привезена эмигрантами из Фландрии и Голландии). В западных графствах (Уилтшир, Глостер, Сомерсет) вырабатывались преимущественно широкие некрашеные сукна. Другие сорта сукна, так называемые каразеи, изготовлялись на севере, по преимуществу самостоятельными ремесленниками, и шли главным образом на внутренний рынок. Заметим, что капиталистическая работа на дому практиковалась шире всего в деревне, свободной от цеховых регламентов, которыми все еще регулировалось городское ремесло.
Итак, капиталистический уклад в промышленности предреволюционной Англии был представлен капиталистической мануфактурой — централизованной и рассеянной — с явным преобладанием последней.
Хотя цеховой строй городского ремесла, как отмечалось, был еще жив и не без содействия властей [9] Знаменитый Елизаветинский статут об ученичестве 1563 г. продолжал регулировать объем и технологию производства: требование семилетнего ученичества от всех желающих заниматься ремеслом в городе, запрет держать под одной крышей более двух станков, запрет совмещать в одной мастерской работу ремесленников различных специальностей, ограничение числа подмастерьев, занятых у одного мастера, и т. д.
продолжал отстаивать традиционные формы производства (отсюда борьба корпоративных городов против новых центров мануфактуры, и прежде всего в их сельской округе), однако не требуется большого труда, чтобы обнаружить яркие свидетельства его внутреннего перерождения и разложения.
В XVII веке имущая верхушка в цехах настолько отделилась от массы ремесленников, что первая сосредоточила в своих руках связи с рынком, а вторые были оттеснены от него и ограничены только функциями производства. Верхушка цехов, так называемые ливрейные мастера (представлявшие цех перед городскими властями), вскоре выделилась в так называемые ливрейные компании. Это были уже по сути чисто купеческие компании, подчинившие своей экономической власти ремесленников соответствующих специальностей: торговцы сукном диктовали свои условия ткачам, торговцы ножевыми изделиями — производителям клинков, ножей, кузнецам и т. д. Достаточно отметить, что из 12 ливрейных компаний Лондона 7 являлись с самого начала торговыми корпорациями. Разумеется, в провинциальных городах процесс перерождения цехов не был столь интенсивным и очевидным, тем не менее и здесь внешняя устойчивость традиционного уклада прикрывала ту же тенденцию.
В целом продолжавшийся постоянный контроль цеха за соблюдением средневековых стандартов изделий (скажем, ширины, длины и веса куска сукна, количества нитей в основе, наконец, требование пользоваться традиционными орудиями труда) превращал цеховой строй городского ремесла в серьезную помеху на пути технического усовершенствования производства, развития нецехового ремесла и вместе с ним капиталистической мануфактуры.
Даже из этого краткого очерка структуры английской промышленности в первой половине XVII века нетрудно заключить, что столкновение двух социально-экономических форм производства — мануфактурного и цехового [10] Существование в промышленности этого времени уклада мелкотоварного, в особенности на севере и северо-востоке страны, не подлежит сомнению. Однако в столкновении городских и сельских форм промышленного производства его носители чаще всего оказывались на стороне последних.
— создавало в этой сфере три очага социальной напряженности. На почве уклада традиционного — между мастерами и подмастерьями и учениками — внутри мастерской и между цеховыми корпорациями, захватившими в свои руки связи с рынком, и цехами «чисто» производственными, т. е. низведенными до положения экономически зависимых и обираемых. На почве уклада капиталистического — между работодателями и различными категориями работных людей: «домашними» рабочими, наемными рабочими централизованных мануфактур и т. п.
Однако за этими типами социально-классовых противоречий, олицетворявшими противоречия в классической форме (принадлежавшие в одном случае историческому прошлому, а в другом — историческому будущему), нельзя проглядеть решающее значение третьего, и основного для данного этапа развития капитализма, типа противоречий: между интересами торгово-предпринимательского капитала и внутренней и внешней политикой абсолютизма первых Стюартов .
Как мы убедились, денежный капитал в первой половине XVII века лишь в незначительной степени успел превратиться в капитал промышленный. Недаром же предприниматель-мануфактурист этого времени выступает еще как купец по преимуществу. Собственно буржуазной экономической формой в это время все еще остается сфера товарного обращения , поскольку промышленное применение капитала по причинам, указанным выше, все еще рассматривалось, как правило, в качестве малопривлекательного поля его приложения в сравнении с торговлей. Недаром экономисты этого времени объявляли не производство, а торговлю основой процветания государства, наиболее быстрым путем обогащения страны. Это были, очевидно, представители так называемой монетарной теории, которые смешивали деньги с капиталом, золото — с богатством.
Сколько бы потребительских ценностей ни производили плодородные почвы и прилежание человека, учили они, страна не будет по-настоящему богатой, если эти ценности не станут товаром для других народов: ведь только внешняя торговля (при положительном торговом балансе), т. е. приток драгоценных металлов, способна увеличить национальное богатство. Такова была в ту пору экономическая теория. А практика?
Начать с того, что к началу XVII века внутренние области Англии уже давно вышли за рамки локальных рынков, образовав единый национальный рынок. Его олицетворением был Лондон.
Роль этого мегаполиса не только в политической, но и в экономической жизни страны была в то время поистине уникальной. Его население в 200 тыс. человек по численности намного превосходило совокупное население всех остальных портовых городов Англии, заслуживавших этого названия. Потребности этого города в продовольствии в немалой степени обусловили хозяйственное развитие не только близлежащих графств, но и относительно далеко от него отстоявших: одни служили для него молочной фермой, огородом и садом, другие выращивали для него пшеницу и выпасали стада, предназначенные для бойни. Судоходная на большом протяжении Темза и развитое каботажное (прибрежное) судоходство облегчали (и, заметим, намного удешевляли) доставку сюда не только продовольствия, но и промышленных изделий и топлива (каменный уголь). О емкости лондонского хлебного рынка дают представление следующие данные: В 1535 г. в город было доставлено 150 тыс. квартеров [11] Квартер — мера сыпучих тел, равна 2,9 гектолитра; мера веса — 12,7 кг.
пшеницы; в середине XVII века для прокормления его населения уже требовалось 1 150 тыс. квартеров. В Лондон стекалась со всех концов страны и львиная доля товаров, предназначенных для вывоза за море (прежде всего шерстяные ткани), равным образом через Лондон Англия получала б о льшую часть товаров заморских.
Интервал:
Закладка:

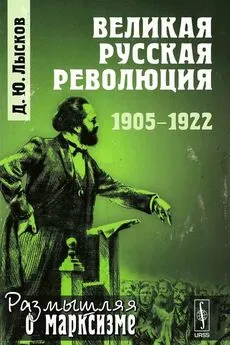
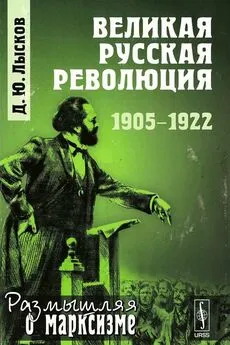

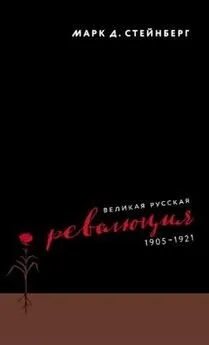
![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)