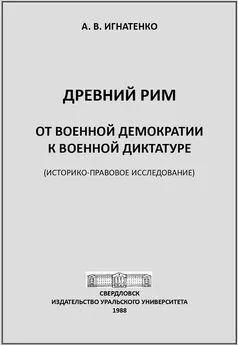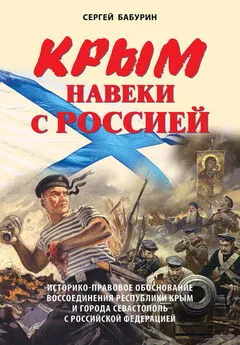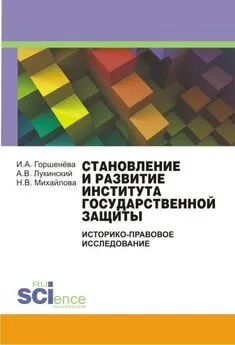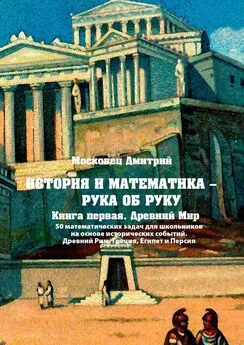Аргира Игнатенко - Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре: (историко-правовое исследование)
- Название:Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре: (историко-правовое исследование)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Уральского университета
- Год:1988
- Город:Свердловск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аргира Игнатенко - Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре: (историко-правовое исследование) краткое содержание
Для специалистов по истории и теории государства и права, студентов исторических и юридических факультетов.
Древний Рим: от военной демократии к военной диктатуре: (историко-правовое исследование) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таким образом, уже это обстоятельство позволяет говорить о зарождении в Риме в эпоху царей особого войска, Настоящее же отделение вооруженной силы от народа может быть зафиксировано с появлением более или менее постоянного ее ядра, не совпадающего полностью с военной организацией по родам, куриям и трибам, а именно с появлением конницы, состоявшей из знатной и богатой молодежи [83] Liv., I, 13; II, 20.
. В коннице из 300 celeres , которых Ромул превратил в своих вооруженных телохранителей, всегда при нем состоявших (по выражению Ливия, «не только на войне, но и в мирное время» [84] Liv., I, 13,8; 36; Vаrrо. De 1. I., 1.5.89; Plut., Rom., 13.
), уже можно видеть военную дружину, которая усиливала власть рекса и, защищая интересы верхушки общества, являлась политической и военной опорой складывающейся государственности [85] Liv., I, 15; См.: Маяк И. Л. Рим первых царей… С 114–119.
. Постоянный характер службы целеров, которых Марквардт идентифицирует со всадниками, дает основание видеть в коннице ядро войска царской эпохи [86] Marquard J. Rômische Staatsverwaltung. 3. Aufl. Darmstadt, 1957, Bd.2. S. 322.
, а А. И. Немировский усматривает именно в этом складывающемся ядре вооруженных сил зарождение элемента особой публичной власти в Риме [87] Немировский A. И. История раннего Рима и Италии. С. 233.
. Действительно, налицо та самая военная дружина, которая характерна для общества переходной эпохи и которая была нужна родо-племенной знати как орудие грабежа и угнетения Соседей, как орган господства и угнетения, направленный против собственного народа. Что касается пехоты, то она являлась также типичным для эпохи военной демократии ополчением самовооружавшихся соплеменников-общинников-граждан, создаваемым по мере надобности. В такой армии, как в зеркале, отразилась социальная структура раннего Рима, а именно: разделение общества на людей знатных и незнатных, состоятельных и малоимущих. В зависимости от имущественного состояния общинники несли службу в коннице либо в пехоте. Первые служили постоянно, составляя свиту рекса, его военную дружину; они были богаче и потому лучше вооружены, им принадлежала руководящая роль в войске и общине, что еще больше способствовало их обогащению. Другие, служившие в пешем ополчении, составляли массу рядовых общинников, играли второстепенную роль в военной организации и в мирной жизни все больше попадали в зависимое, неравноправное положение.
Итак, в чем же конкретно состояло то новое, что позволяет говорить о возникновении особой публичной власти, государственности в царский период? Что нового появилось в структуре, содержании и функционировании органов родоплеменного строя по мере их приспособления к условиям классового общества? Повторяя внешне структуру родо-племенных органов, они отличались значительной отграниченностью от всей массы населения в целом, более узким, избирательным составом — как комиции и военная организация; недемократическим характером происхождения власти — как сенат и реке, избрание которого комициями стало носить формальный характер.
Главное же — по своему содержанию это органы, выражавшие и защищавшие интересы не всего населения общины, а в первую очередь людей знатных, состоятельных, полноправных. Более того, деятельность этих органов направлена уже против основной массы населения, против свободной бедноты, клиентов, плебеев, против рабов. Новая политическая функция куриатных комиции, сената, рекса осуществлялась качественно новым войском, точнее — конным ядром его, которое явилось главным орудием власти военно-патрицианской верхушки. Связь с таким войском — важнейшая черта всех органов рождающегося государства, как трансформировавшихся из родо-племенных, так и новых, которые, как правило, возникали из военных потребностей и из военных элементов. Из военных нужд вырастал несложный на первых порах государственный аппарат, включавший рейса и назначаемых им военачальников ( tribuni militum , tribuni celerum и др.); войско же в лице своих командиров поставляло кадры для этого аппарата. Дружина и довольно рано начавший распоряжаться ею военачальник-рекс будучи созданы для внешнеполитических нужд, явились первоначальным и главным звеном государственного механизма, поскольку это качественно новое войско оказалось главным орудием принуждения внутри Рима, в нем была сосредоточена главная сила власти верхушки римского общества. Именно поэтому за право распоряжения военной силой вел постоянную борьбу сначала с комициями, а затем с рексом патрицианский сенат. Таким образом, у истоков римской государственности стоят войны и образование связанной с их нуждами военной организации.
Анализ функционирования органов рождающегося государственного аппарата, этой единственной пока еще сферы политической жизни, позволяет вскрыть особенности столь же неразвитого политического режима. Складывающиеся в таких условиях приемы и методы осуществления диктатуры господствующей верхушки и представляли собой военную демократию. По внешним проявлениям это была демократия, унаследованная от первобытнообщинного строя. Небольшие размеры римской общины способствовали сохранению видимости прямого народовластия. Но ho внутреннему содержанию режим военной демократии уже самым кардинальным образом отличался от демократии первобытнообщинной.
Во-первых, это была демократия, ограниченная в социальном отношении: она распространялась только на граждан-воинов, существовала только для определенного, военного элемента общества. (С точки зрения самих римлян, это было совершенно естественным: делами общины, ее имуществом, ее войском распоряжался круг лиц, которые сами осуществляли защиту общины, завоевание для общины новых земель, богатств). К тому же при сложившейся форме куриатных сходок все вопросы решались под давлением родо-племенной знати. Таким образом, соотношение классовых сил и здесь было главным, что определяло суть военной — демократии как определенного политического режима: как и в любом классовом обществе, это была демократия только для господствующей верхушки. Вместе с тем с помощью военной демократии вообще и куриатной организации в частности поддерживалась видимость единства всей общины.
Во-вторых, это была демократия, ограниченная в функциональном отношении: деятельность ее ограничивалась военной сферой, по преимуществу внешнеполитической. Она существовала также для облечения избранного рекса высшей властью — империумом, основным компонентом которого была власть военная, состоявшая не только из верховного командования, но и фактического высшего распоряжения войском. Что касается вопросов внутренней жизни общины, то они уже целиком изымались из круга полномочий военных сходок, какими являлись куриатные комиции. (Единственным, на что еще претендовали курии, было распоряжение завоеванными землями, но и это им, как свидетельствует традиция, не часто удавалось). Все сказанное дает полное основание вслед за Ф. Энгельсом определять режим, сложившийся в Риме в переходный царский период, как военную демократию [88] См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 21, С. 127.
. Но то обстоятельство, что реке, будучи облечен империумом, получал от комиций войско в свое «пожизненное» распоряжение, имело далеко идущие последствия. Именно здесь были заложены основы для дальнейшего функционального ограничения и даже извращения демократии. Рексы сначала де-факто, а затем и де-юре узурпировали у комиций право распоряжения войском и стали использовать это войско против собственного народа. Первоначально такие акции предпринимались против непокорных завоеванных либо присоединившихся общин, затем — против уже вошедших в состав римского народа сабинян, еще позднее — против выступлений плебеев. Много примеров тому можно найти в исторической традиции, изложенной Ливием [89] Liv., I, 27, 29, 31, 33; 35; 36–37 sq.
.
Интервал:
Закладка: