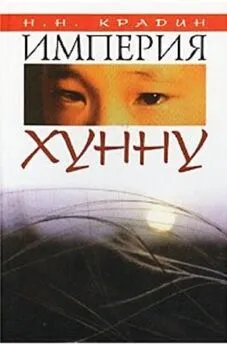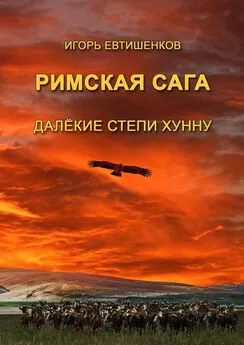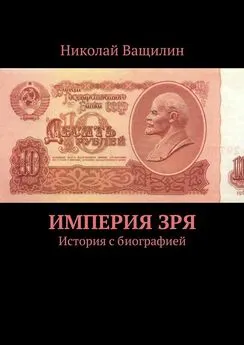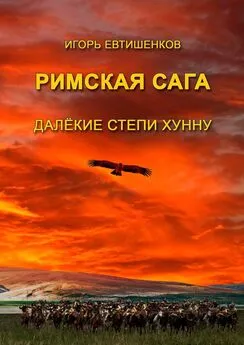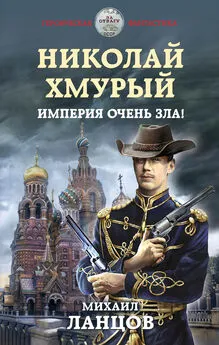Николой Крадин - Империя Хунну
- Название:Империя Хунну
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Логос
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-94010-124-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николой Крадин - Империя Хунну краткое содержание
Книга предназначена для историков, археологов и этнологов-антропологов. Благодаря ясному языку и увлекательному стилю изложения она привлечет внимание широких кругов читателей, а также всех, интересующихся историей древних цивилизаций.
Империя Хунну - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Главным инструментом давления кочевников на Китай являлась тактика запугивания — набеги или угроза совершения таких набегов. Как правило, набеги совершались осенью, когда лошади набирали вес, а китайцы начинали собирать урожай. «Сейчас осень, лошади у сюнну откормлены, и с ними не следует воевать», — докладывал Лу Бодэ китайскому императору [436] Материалы 1973: 110.
. При этом набеги были умышленно разрушительными. Кочевники словно специально с особой жестокостью вытаптывали посевы, сжигали урожаи и селения крестьян, нисколько не заботясь от том, что подрывают тем самым один из возможных источников своих доходов [437] Лидай 1958:31; Бичурин 1950а: 59; Материалы 1968: 46–47.
. Они знали, что ханьская администрация, заинтересованная в стабильности приграничных округов, изыщет любые средства и заново отстроит разрушенные деревни, вновь заселит их колонизаторами, засеет заброшенные поля хлебом.
Поэтому приграничный «террор» был излюбленным орудием шаньюев для извлечения подарков, торговых и других привилегий. Чжунхан Юэ, китайский иммигрант, ставший советником при Лаошан-шаньюе, прямо пугал китайского посланника: «Ханьский посол, не говори лишнего, заботься лучше о том, чтобы шелковые ткани, вата, рис и солод, которые ханьцы посылают сюнну, были в достаточном количестве и непременно лучшего качества. К чему болтать? Если поставляемого будет в достатке и лучшего качества, то на этом все кончится, но при нехватке или скверном качестве осенью, когда созреет урожай, мы вытопчем ваши хлеба конницей» [438] Лидай 1958: 31; de Groot 1921: 88–89; Бичурин 1950а: 59; Материалы 1968: 46–47.
.
Другой составляющей хуннского «террора» являлась практика угона в массовом количестве жителей китайских приграничных Провинций. Едва ли не после каждого набега номады пригоняли в свои кочевья пленников. Упоминания об этом имеются во всех китайских хрониках, в которых рассматривается история хунну: в « Ши цзи » (цзянь 110), в «Хань шу» (цзянь 94а, 946) и в «Хоухань шу» (цзянь 79). Отчасти эти данные уже суммированы Г.И. Семевюком [439] 1958: 57.
. Более подробно этот вопрос рассматривается в четвертой главе.
Набеги, «подарки» и торговля: 200–133
Для вымогания все более и более высоких прибылей хунну пытались чередовать войну и набеги с периодами мирного сожительства с Китаем. Первые набеги совершались с целью получения добычи для всех членов имперской конфедерации номадов независимо от их статуса. Шаньюю требовалось заручиться поддержкой большинства племен, входивших в конфедерацию. Следовательно, каждый воин имел право на добычу в бою:
«Тот, кто в сражении отрубит голову неприятелю или возьмет его в плен, жалуется одним кубком вина, ему же отдают захваченную добычу, а взятых в плен делают [его] рабами и рабынями. Поэтому каждый, естественно, воюет ради выгоды» [440] Лидай 1958: 18; Бичурин 1950а: 50; Материалы 1968: 41. В чаше, которую дают хуннам, есть соблазн видеть некое сходство со скифским обычаем, описанным Геродотом [IV, 66]. Правда, справедливости ради, необходимо отметить, что это, возможно, более широко распространенная традиция для того времени, когда меч и копье служили главными аргументами…
.
После опустошительного набега шаньюй, как правило, направлял послов в Китай с предложением заключения нового договора «О мире и родстве», или же номады продолжали набега до тех пор, пока китайцы сами не выходили с предложением заключения нового соглашения [441] Лидай 1958: 31–32; Бичурин 1950а: 59–61; Материалы 1968: 47–48.
.
Такая практика впервые была применена еще при Модэ. После Байдэнского сражения был заключен первый договор « О мире и родстве » [442] Yu 1967: 10.
, по которому: (1) Хуннская держава признавалась практически равной по статусу Хань; (2) китайцы должны были ежегодно поставлять в ставку шаньюя богатые подарки, шелк, вино, рис и зерно; (3) шаньюй получал невесту из императорского дома (правда, в этом его обманули); (4) официальной границей между Хунну и Хань устанавливалась Великая стена [443] Лидай 1958: 19; Бичурин 1950а: 52; Материалы 1968: 42, 71–72.
.
После заключения договора и получения даров набеги на какое-то время прекращались. Однако размер «подарков», выплачиваемых согласно политике хэцинь , не оказывал существенного влияния на экономику хуннского общества в целом. Судя по косвенным данным, ежегодная «дань» Хань составляла 10 000 даней рисового вина, 5000 ху проса и 10 000 кусков шелковых тканей [444] Лидай 1958: 191; Бичурин 1950а: 76; Материалы 1968: 22. В раде других переводов допущены неточности [Wylie 1874: 440; Paiker 1892/1893: 116–117; Бичурин 1950а: 76; Панов 1918: 59; Loewe 1967a: 161].
.
Среднегодовой паек зерна для взрослого мужчины по китайским нормам составлял 36 ху (около 720 л) [445] Loewe 1967b: 65–75.
или, возможно, чуть больше (около 800 л) [446] Крюков и др. 1983: 200–201.
. При таком нормировании данного количества зерна ежегодно могло хватать не более чем на 150 человек. Если использовать хлебные продукты только в качестве пищевой добавки (например, в размере около 20 % от нормы), данного количества зерна могло хватить для питания в течение года примерно 700–800 человек. Очевидно, что императорские поставки хлеба могли предназначаться только для удовлетворения нужд шаньюевой ставки [447] Barfield 1981: 53; 1992: 47.
. Таким образом, императорские «подарки» продуктами были недостаточны для удовлетворения запросов всего хуннского общества. «Подарки» и дань оставались на верхних ступенях социальной пирамиды, не достигая низовых этажей племенной иерархии. Однако простым номадам также требовалась продукция экономики оседло-городского общества.
Для удовлетворения нужд всех членов «имперской конфедерации» и поддержания внутренней стабильности шаньюй был вынужден отстаивать экономические интересы простых номадов. Он мог это делать двумя способами: набегами на Китай или же посредством приграничной торговли, с помощью которой простые номады могли бы выменивать необходимые для них продукты и изделия ремесла. Однако из китайских источников известно, что война приносила номадам гораздо больше прибыли, чем приграничная торговля или подарки [448] Лидай 1958: 262, 263–264; Материалы 1973: 64, 66–67.
. Это в конечном счете часто предопределяло характер хуннской политики в отношениях с Китаем. То, что не кочевая аристократия, а обычные скотоводы часто являлись инициаторами набегов на земледельческие общества, подтверждается многочисленными аналогиями из истории номадов разного времени [449] Покотилов 1893:124,208–209; Киселев 1951:598; Иванов 1961: 96–97; Аверкиева 1974: 313; Марков 1976: 151; Калиновская, Марков 1987: 62; Першиц 1994: 195–196.
.
Как правило, после совершения набега и при заключении нового договора шаньюй настаивал на открытии рынков на границе. Однако двор Хань по политическим причинам был против открытия торговли с номадами [450] Lattimore 1940:478–480.
, и шаньюю приходилось довольствоваться богатыми дарами. Через определенный промежуток времени, когда награбленная простыми номадами добыча заканчивалась или приходила в негодность, скотоводы снова начинали требовать от вождей и шаньюя удовлетворения их интересов. В силу того, что китайцы упорно не шли на открытие рынков на границе, шаньюй был вынужден «выпускать пар» и отдавать приказ к возобновлению набегов.
Интервал:
Закладка: