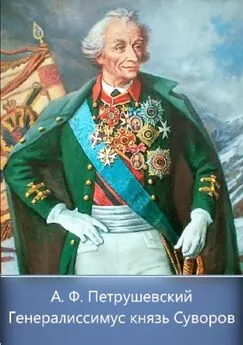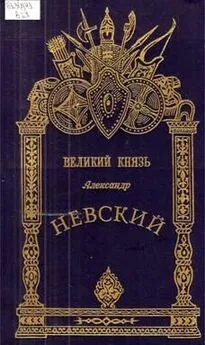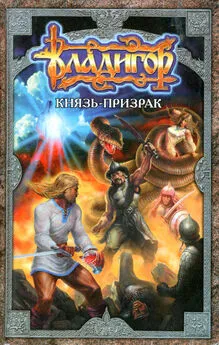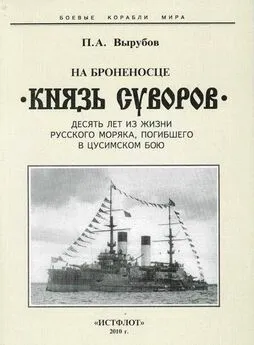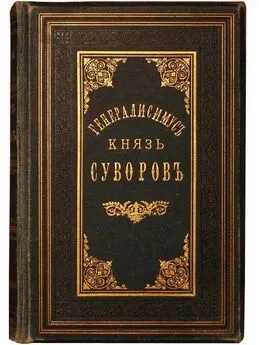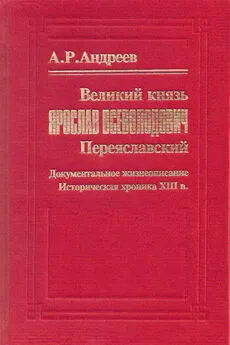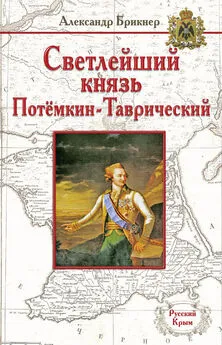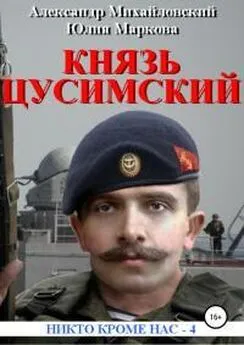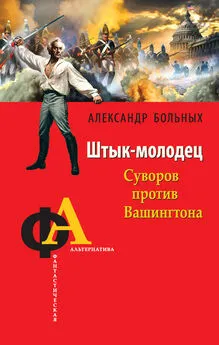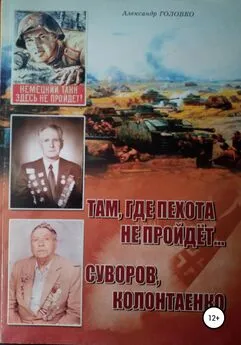Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов
- Название:Генералиссимус князь Суворов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1884
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов краткое содержание
Однако, книга остается малоизвестной для широкой публики, и главная причина этого — большой объем. Полторы тысячи страниц, нагруженных ссылками, приложениями и пр., что необходимо для учёных-историков, мешает восприятию текста для рядового читателя. Здесь убраны многочисленные ссылки, приложения, примечания, библиография, полемика с давно забытыми оппонентами и пр., что при желании всегда можно посмотреть в полном издании.
Кроме того, авторский текст переведён на современный язык и местами несколько сокращён. К примеру, предложения типа:
«Храбрые, отважные русские воины предприняли энергические наступательные действия»
теперь выглядят так:
«Русские энергично атаковали».
Но к авторскому тексту не добавлено ни слова.
Генералиссимус князь Суворов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Русские войска шли к Сен-Готарду, тяжести их отправили кружным путем через Верону, Тироль, Форарльберг и по северному берегу Боденского озера, а полевая артиллерия по озеру Комо, через Киавенну, в долину Энгадин и затем через Ландек и Блуденц в Фельдкирх. Не только полевые, но и полковые орудия шли в этой колонне. Взамен их русские должны были получить 25 горных пушек, и к действию из этой новой артиллерии приказано было приучить прислугу. Войска были облегчены до последней возможности. В продолжение Итальянской кампании они имели при себе гораздо меньше обозов, чем в предшествовавшие войны с поляками и турками, но, по замечаниям иностранных писателей, были все-таки слишком обременены. Привычка и злоупотребления поощряли офицеров и солдат прибегать к разным изворотам, чтобы обойти распоряжение. Например, было строжайше запрещено офицерским женам следовать за армией; несмотря на то многие дамы переодевались в мужское платье и не расставались с мужьями, прячась от Суворова. Теперь все, что требовало перевозочных средств, было послано в дальнюю отдельную колонну, при корпусах не оставалось ничего кроме вьюков. Многие офицеры не имели ни вьюков, ни верховых лошадей, и шли пешком со скаткой через плечо и несли узел с провизией. Войска двигались быстро, но без утомления и без отсталых. Выступали в 2 часа утра, в 10 часов солдат находил на привале готовую кашу, подкреплял силы, раздевался и спал несколько часов. В 4 часа, когда полуденный зной начинал спадать, выступали, шли часов шесть, и в 10 часов на ночлеге находили готовый ужин.
По донесению Фукса генерал-прокурору, австрийцы расставались с Суворовым не без боязни за будущее, а жители, противники французов, с сожалением и печалью.
27 августа, накануне выступления, Суворов отдал по армии прощальный приказ. Он благодарил генералов за усердие и деятельность, за старание исполнять волю государя, за благоразумие и храбрость, офицеров за примерную храбрость и сохранение совершенного порядка и дисциплины, нижних чинов за неизменное мужество, храбрость и непоколебимость. Он уверял армию в уважении, не находя слов, чтобы выразить, насколько ею доволен и с каким сожалением расстается. "Никогда не забуду храбрых австрийцев, которые почтили меня своею доверенностью и любовью; воинов победоносных, сделавших и меня победителем". В тот же день австрийские генералы и лица главной квартиры откланивались Суворову. Все худое было забыто, тем более, что шло оно преимущественно не от подчиненных, а из Вены. Суворов не мог подавить грусти и, обнимаясь с Меласом, прослезился.
К гр. Воронцову, в Лондон Суворов писал даже после швейцарского похода: "на австрийские войска я не имею причины жаловаться, потому что быв побуждаемы соревнованием, способствовали они многим успехам и, не взирая на порабощение всех и каждого генерала к начальствующему ими министру, с должным согласием исполнял каждый свою обязанность, и все они имели ко мне привязанность". В боевом отношении особенно хороши были их драгуны, артиллерия стояла выше русской. Хозяйственная, госпитальная часть, генеральный штаб далеко оставляли за собой русские. Были и недостатки: "Цесарцы долго равняются", писал Суворов Ростопчину; но самым крупным были злоупотребления по провиантской части, хотя организована она была довольно хорошо. В боевом отношении русские войска больше удовлетворяли Суворовским требованиям, однако казаки, умевшие действовать в рассыпном пешем строе, все-таки не могли заменить драгун. Зато пехота, по отзыву одного иностранного писателя, стояла "неизмеримо выше австрийской".
Не давая в переписке пощады Тугутовым приспешникам и, при случае, издеваясь над австрийской боевой неумелостью, Суворов отличался тактом в отношении к войскам и их начальникам и проводил между австрийцами и русскими примиряющее начало. В конце августа он пишет графу Толстому: "В продолжение нынешней кампании никогда не цвело лучшего согласия, как посреди наших и союзных войск; сие не в порядке вещей и правил; но я как сии, так и многие другие сделал фальшивыми: соревнование подало взаимно помощь и пополняло недостающее". Являлись к нему русские и австрийские генералы с жалобами и претензиями друг на друга, но Суворову почти всегда удавалось уладить несогласие, не пуская вглубь. Даже на самом верху армии приходилось улаживать подобные столкновения, например между Меласом и Розенбергом. Из одной записки Суворова видно, что между ними было "ревнование зависти: я сделал, я сделал; я хорош, тот худ; я бил, не он; его били, я поправил: а все то в полной дружбе". Суворов говорит в записке, что "эти термины подлы, для эгоизма и для собственных мелких интересов или только для ребячьего и трактирного хвастовства".
Опасение за будущее волновало Павла: "Жду с нетерпением прихода вашего в Швейцарию и заранее жалею о трудах, кои вы в сем походе понесете". И в Государе, и в других опасения разбавлялись надеждой на дарования Суворова, и в письме к нему Воронцова выражено общее русское мнение, да и не только русское. Он писал, что присутствие Суворова в Швейцарии служит ручательством за будущие успехи, что он стоит целой армии, особенно когда будет действовать свободно, не спрашиваясь Вены; что в Швейцарии не будет ни интриг Тугута, ни зависти австрийских генералов, которые, будучи постоянно биты, ныне, благодаря Суворовской кампании в Италии, пребывают в изумлении, что могут вести войну не пятясь назад.
В Суворове действительно заключалась надежда на добрый исход Швейцарской кампании, и он не считал дело потерянным, но оно было очень трудным. Злее прежнего сделались его сарказмы. Тугута он называет совой, подьячим, потерявшим Нидерланды, Швейцарию и Италию, систему его - глупою; про эрц-герцога Карла говорит, что он "опочивал больше трех месяцев по указу"; "Меня не будет, не будет ни одного, кто противу Тугута правду скажет". Государю он пишет, что исполняя высочайшую волю, он ведет храброе русское войско на новые поля сражений, где или поразит врага, или умрет со славою за отечество и государя. К Хвостову он обращается с откровенными словами: "Не ручаюсь, как пройду через горло сильного неприятеля". С. Воронцову пишет: "Хотя в свете ничего не боюсь, скажу - в опасности от перевеса Массены мало пособят мои войска отсюда, и поздно"; еще позже: "Массена не будет нас ожидать и устремится на Корсакова, потом на Конде".
Князь Горчаков пишет Хвостову, что Суворов очень слаб и едва ходит, а причиной тому беспрестанные заботы. Старые солдаты, и те замечали, что он погружен к глубокую думу, и находили перемену в выражении его лица.
В одном из писем к Ростопчину он писал: "Геройство побеждает храбрость, терпение - скорость, рассудок - ум, труд - лень, история - газеты".
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: