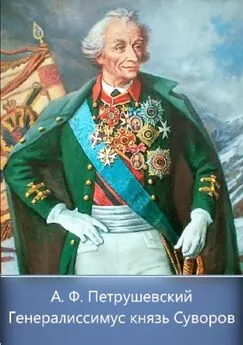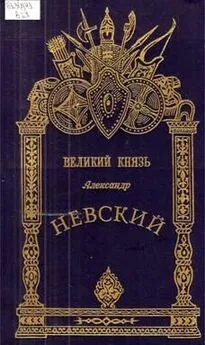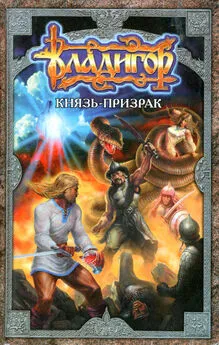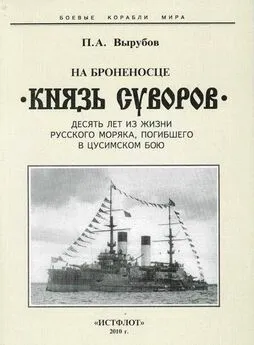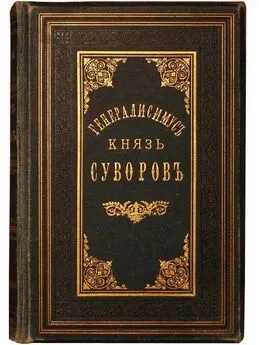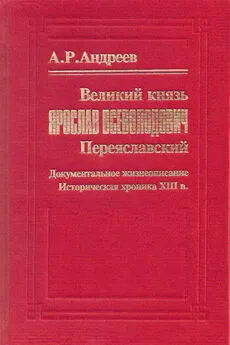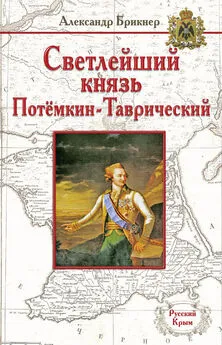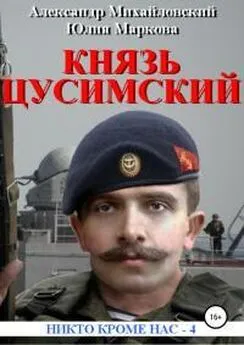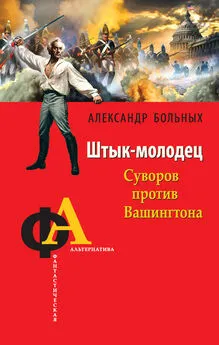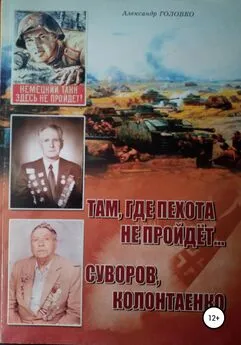Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов
- Название:Генералиссимус князь Суворов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1884
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов краткое содержание
Однако, книга остается малоизвестной для широкой публики, и главная причина этого — большой объем. Полторы тысячи страниц, нагруженных ссылками, приложениями и пр., что необходимо для учёных-историков, мешает восприятию текста для рядового читателя. Здесь убраны многочисленные ссылки, приложения, примечания, библиография, полемика с давно забытыми оппонентами и пр., что при желании всегда можно посмотреть в полном издании.
Кроме того, авторский текст переведён на современный язык и местами несколько сокращён. К примеру, предложения типа:
«Храбрые, отважные русские воины предприняли энергические наступательные действия»
теперь выглядят так:
«Русские энергично атаковали».
Но к авторскому тексту не добавлено ни слова.
Генералиссимус князь Суворов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
После победы при Козлуджи, наступление к Шумле было настоятельным шагом, особенно в виду паники, которой отдавались турки после каждого значительного поражения. К тому же, из Шумлы были высланы к Козлуджи почти все наличные силы, и визирь остался там всего с 1,000 человек. Но Каменский собрал военный совет из 6 генералов; был и Суворов. Совет постановил дать на 6 дней отдых войскам в ожидании подвоза провианта, а потом отступить на позицию между Шумлой и Силистрией, чтобы отрезать последнюю от внутренней части страны и содействовать переправившемуся через Дунай главнокомандующему.
Граф Румянцев был взбешен таким решением, что и высказал Каменскому. "Не дни да часы, а и моменты в таком положении дороги", писал он 13 июня: "недостаток пропитания не может служить извинением, ибо от вас же зависело отвратить оный".
По отношению к Суворову, постановление военного совета при Козлуджи является диссонансом. 18 лет спустя он писал: "Каменский помешал мне перенесть театр войны через Шумлу за Балканы".
Тогда же Суворов пишет записку: "Семь батальонов, 3 - 4,000 конницы были при Козлуджи, прочие вспячены Каменским 18 верст, - отвес списочного старшинства. Каменский помешал графу А. Суворову Рымникскому перенесть театр через Шумлу за Балканы".
Тут преувеличение: Каменский не "вспятил" войска при Козлуджи, Суворов сам ушел от него вперед; но и слова Суворова, и записка свидетельствуют, что у него было желание наступать после Козлуджи. Правда, желание это было нереально, ибо своих войск Суворов имел слишком мало и они были совершенно изнурены.
Каменский высказал Суворову тотчас после сражения свое негодование и призвал его к порядку. Суворов увидел ясно, что самостоятельность действий для него закрыта, Каменский на буксире за ним не пойдет, а если бы и удалось убедить его на дальнейшие действия к Шумле и потом за Балканы, то успеха ждать нельзя, потому что руководить будет не он, Суворов, а Каменский.
Представляя реляцию о козлуджинской победе и рекомендуя наиболее отличившихся, Каменский в особенности хвалил Суворова. Но Каменский и Суворов остались на всю жизнь если не врагами, то в отношениях неприязненных. Находиться в подчинении у Каменского Суворов больше не мог и вскоре уехал в Букарест.
Главнокомандующий принял его сурово и потребовал объяснения - как он решился оставить свой пост почти в виду неприятеля. Что отвечал Суворов - неизвестно. Нелады его с Каменским побудили Румянцева дать ему назначение к графу Салтыкову, "во избежание излишнего в переездах труда". Однако в тот же день, 30 июня, Румянцев сообщил Салтыкову, что Суворову дозволено, по его прошению, ехать для лечения в Россию. Суворов впрочем не уехал и оставался в Молдавии до вызова его для действий против Пугачева.
Сражение при Козлуджи вконец сломило нравственные силы турок и отняло у визиря надежду на успешный исход войны. Лучшие турецкие крепости были блокированы, сообщения между ними и внутреннею страною прерваны; Шумле грозил штурм; небольшой русский отряд проник за Балканы. Начались мирные переговоры. Румянцев повел их с большим искусством, и 10 июля 1774 заключен в Кучук-Кайнарджи мир. Русские добились независимости Крыма, уступки Кинбурна, Азова, Керчи и Еникале, свободного плавания по Черному морю. Турки обязались заплатить 4 1/2 миллиона рублей. Тяжелы были мирные условия для Турции, но могли быть еще тяжелее, если бы сама Россия не нуждалась в мире.
Так кончилась эта война, названная современниками Румянцевскою. Она тянулась долго, но тому были многие причины: политические осложнения, оттягивавшие наши силы от Турции; затруднения в продовольствии войск за Дунаем; временами излишняя осторожность главнокомандующего и некоторых его генералов, исполнявших наполовину или вовсе не исполнявших его распоряжений. Войска были в огромном некомплекте, комплектовались медленно и не вполне; нуждались в необходимейших предметах снаряжения, которые почти постоянно запаздывали; движения войск затруднялись многочисленными обозами, составлявшими для армии истинную обузу. Русские таскали за собой рогатки, которыми в прежнее время отгораживались от бешеных атак турок, заранее обрекая себя на пассивный образ действий. Румянцев отменил рогатки, и хотя сами войска их терпеть не могли, но сила привычки брала свое, и рогатки совсем исчезли из русской армии лишь в следующую Турецкую войну. Русские так же, как и западные европейцы, действовали против турок в огромных каре; Румянцев уменьшил их величину и тем сделал армию поворотливее и подвижнее.
Суворов в некоторых отношениях пошел еще дальше Румянцева. Будучи тут новичком, он старался ставить подчиненные ему войска на Суворовскую ногу, применяя к ним основные положения своего "суздальского учреждения". Он употребляет в бою колонны с дистанциями, чтобы за головной частью всегда находился резерв; резерв у него везде играет важную роль. Мы видим употребление стрелков, в виде особых небольших отделений, которым указываются места при колоннах линейной пехоты. Каре он принял сразу, как лучший способ построения против турок, но размеры Румянцевских каре уменьшил, строя их даже из рот. Многие тактические приемы Суворова сделались потом правилом для всей Европы, хотя заимствовали не у него, а у французов, выработавших собственную тактику во время войн революции. Его тактика в Турции, как и в Польше, была тактикой обстоятельств, и буквоеды военного дела говорили, что Суворов тактики не знает, а ему служит одно счастье. А он посмеивался, поджидая событий.
7. В Заволжье, на Кубани и в Крыму. 1774-1779.
Когда война с польскими конфедератами едва окончилась, а с Турцией еще продолжалась, на восточной окраине Европейской России вырос грозный мятеж.
На Яике давно было неспокойно. С одной стороны историческая привычка казаков жить в буйной, своенравной вольности, с другой - притеснения и произвол назначаемых правительством атамана и старшин, питали внутреннее недовольство и тревогу. В начале 1772 вспыхнул открытый мятеж. Мятеж усмирили, но корень его остался; ожесточение и жажда мести под внешним гнетом только крепли и приобретали упругость. Новый взрыв обещал сделаться страшным.
В это время появился на Яике донской служилый казак Емельян Пугачев, назвавшись мнимоумершим Императором Петром III. К нему стали приставать злоумышленники, следом повалили темные люди низших сословий, которым жилось далеко не льготно. Пугачев обещал разные блага и вольность. Первую вооруженную попытку Пугачев сделал на Яицкий городок, но неудачно; неудачи повторялись и впоследствии, но дело ширилось и росло. Пугачев брал один за другим жалкие укрепленные пункты азиатского рубежа, часто с помощью измены; казнил начальников и дворян; присоединял к своим шайкам казаков и нижних чинов. Киргизы, калмыки, татары, башкиры помогали ему прямо либо косвенно. Крепостных Пугачев заманивал обещанием воли, казаков - удовлетворением их жалоб и неудовольствий, раскольников - уничтожением нововведений, кочевников и всех вообще - грабежом чужого добра. Ужас и смятение забирались все дальше; восточные губернии чуть не до самой Москвы представляли собой почву над вулканом. Дворяне и люди имущие тщетно ждали помощи: войска были стянуты к дальним европейским границам, здесь находились лишь разбросанные, редкие команды, начальники отличались робостью, в рядах войск была измена.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: