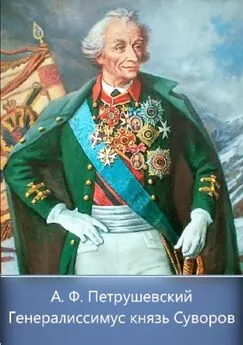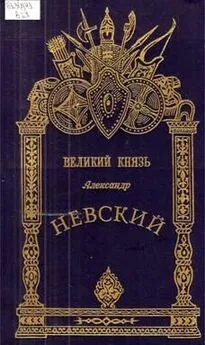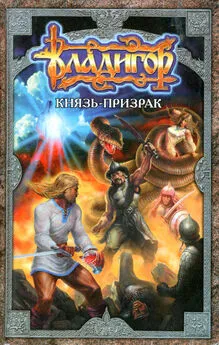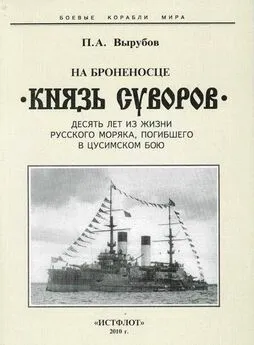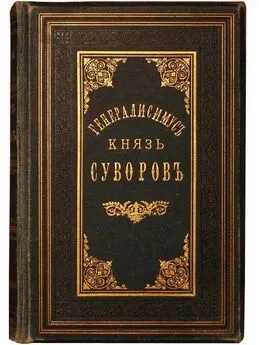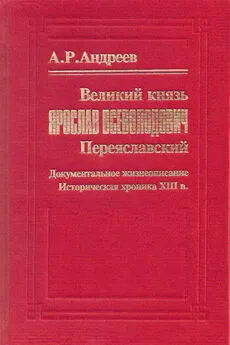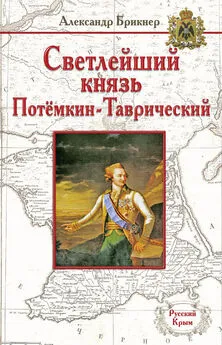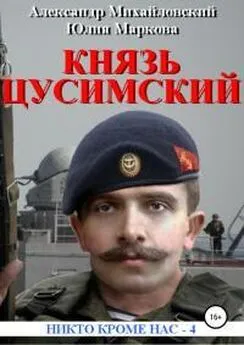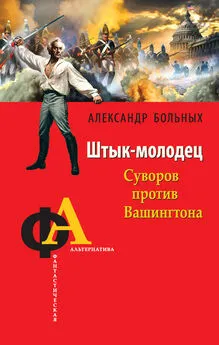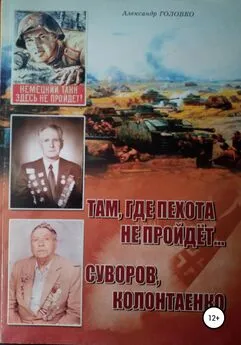Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов
- Название:Генералиссимус князь Суворов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1884
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пертушевский - Генералиссимус князь Суворов краткое содержание
Однако, книга остается малоизвестной для широкой публики, и главная причина этого — большой объем. Полторы тысячи страниц, нагруженных ссылками, приложениями и пр., что необходимо для учёных-историков, мешает восприятию текста для рядового читателя. Здесь убраны многочисленные ссылки, приложения, примечания, библиография, полемика с давно забытыми оппонентами и пр., что при желании всегда можно посмотреть в полном издании.
Кроме того, авторский текст переведён на современный язык и местами несколько сокращён. К примеру, предложения типа:
«Храбрые, отважные русские воины предприняли энергические наступательные действия»
теперь выглядят так:
«Русские энергично атаковали».
Но к авторскому тексту не добавлено ни слова.
Генералиссимус князь Суворов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
3 октября Панин доносил Государыне, что "неутомимость и труды Суворова выше сил человеческих. По степи с худейшею пищею рядовых солдат, в погоду ненастнейшую, без дров и без зимнего платья, с командами майорскими, а не генеральскими, гонялся до последней крайности". Затем Панин уволил Суворова по его просьбе в Москву для свидания с женой. Екатерина писала Панину: "Отпуск его к Москве, на короткое время, к магниту, его притягающему, я почитаю малою отрадою после толиких трудов".
Строго говоря, Суворов почти ничего не сделал, только ускорил развязку на несколько дней. Сама Екатерина как-то сказала, что Пугачев своею поимкою обязан Суворову столько же, сколько её комнатной собачке, Томасу. Но к подобному анализу толпа не прибегает; имя Суворова было связано с поимкой злодея и поднялось еще на одну ступень. Он уже начал возбуждать зависть; приведенные шутливые слова Екатерины служат тому удостоверением, ибо они вызваны толками завистников.
Пугачев был казнен в Москве в начале 1775, но пугачевщина не кончилась. Восточный край Европейской России был расшатан безначалием и разорен до такой степени, что ему грозил голод и мор. У башкир была смута, шайки грабителей бродили в разных местах. Надо было залечить раны, привести общественный и административный механизм в нормальное состояние. Труд предстоял долгий, но начинать надо было немедленно. Государыня не хотела крайних мер; строгость требовалась лишь рядом с милосердием. Начало было возложено на Суворова: ему подчинили войска в Оренбурге, Пензе, Казани, почти до самой Москвы, всего до 80000. В короткое время он усмирил башкирские смуты и уничтожил обломки пугачевских шаек. К силе он прибегал как к последнему средству и старался действовать прежде всего убеждением. Так он поступал не только по инструкции, но и по внутреннему убеждению и через 12 лет с понятным самодовольством писал: "Политическими распоряжениями и военными маневрами буйства башкиров и иных без кровопролития сокращены, но паче императорским милосердием".
Так прошла зима, кроме короткой побывки в Москве. Весною 1775 он объехал пункты расположения своих войск в Самаре, в Оренбурге, в Уфе, выбрал места для лагерей.
Летом происходило в Москве торжественное празднование мира после счастливого окончания войн Польской и Турецкой и усмирения внутренних смут. Екатерина с обычной щедростью расточала милости и награды. Суворову пожаловала золотую шпагу, украшенную бриллиантами. В это время Суворов начал переписку с всесильным Потемкиным, который стал быстро подниматься на недосягаемую высоту. Он рассыпается в комплиментах, выражает надежду на протекцию "благотворителя" и т. п. Из переписки видно, что Суворов продолжал жить в Симбирске, откуда 18 августа 1775 просит увольнения в Москву по случаю кончины отца, о чем обращался еще раньше по команде к Панину, но ответа не получил. Добыв через Потемкина дозволение, он поехал в Москву, представился Государыне и был назначен командовать Петербургской дивизией. Но после смерти отца необходимо было заняться домашними делами, требовалось его присутствие в Москве и в деревнях. Он просил дозволения временно тут остаться и, по всей вероятности, пользовался им в течение года, до назначения в Крым; в Петербург для командования дивизией вовсе не ездил.
Между тем на юге появились признаки беспокойства, прямое последствие Кучук-Кайнарджиского мира. Присоединение Крыма к России, при вызванном Петром Великим естественном росте русского государства, было для проницательного политического ума событием неизбежным; вопрос заключался только во времени. Без этого присоединения и вообще без обладания черноморским прибрежьем, Россия осталась бы государством, географически не законченным. Мысль о необходимости Крыма для России впервые высказана все тем же Петром; в ней ничего реального в то время не было, и приближенным Петра она казалась мечтой. Однако это должно было осуществиться; полустолетие после Петра служило подготовкой, а Кучук-Кайнарджиский мир - первым шагом к осуществлению. Этот шаг заключался в признании Турцией независимости татар и в отдаче России ключей от Крыма в виде Керчи, Еникале и Кинбурна, через что она приобрела возможность сильного на крымские дела влияния и почти неустранимого в них вмешательства. При счастии можно было присоединить Крым без войны. Так и поступило русское правительство, поручив дело Румянцеву, тогдашнему малороссийскому генерал-губернатору и главнокомандующему войсками на юге России. Правительство не обманулось: Румянцев проявил настойчивость и искусство такие же, какими прославил себя на войне.
С 1771 крымским ханом был Сагиб-гирей, приверженец европейских обычаев. Русский резидент в Крыму охарактеризовал его: "самое настоящее дерево". Своей неумелостью, бестактностью и отсутствием сколько-нибудь зрелой мысли, он поселил в татарах глубокую к себе нелюбовь, которая в начале 1775 разразилась катастрофой: мурзы низложили его и избрали Девлет-гирея. Пошли смуты партий. Румянцев вызвал на Кубань из Абхазии брата Сагиба, Шагин-гирея, калгу, т.е. первого сановника ханства. Это и был претендент русской партии. Надо было навязать его ногайским ордам, кочевавшим в прикубанском крае, и этим путем провести в крымские ханы. Пришлось прибегнуть к разным средствам, между которыми главным были конечно деньги; не обошлось и без угроз: дело давалось с трудом и не сразу.
В Крыму готовились к войне. Порта исподтишка подстрекала. Турецкие войска в числе 10000, оставшиеся на полуострове после войны, не уходили. Трапезонтский паша снаряжал десант; к Дунаю, в Акерман, Хотин и Бендеры подходили подкрепления. Татары в Крыму волновались, перерезали даже казаков, везших почту, но Девлет-гирей все не решался, отговариваясь неготовностью. Время проходило не без пользы для России: мурзы стали терять доверие к Девлету и многие перешли на сторону Шагин-гирея. В сентябре 1776 одни ждали нового хана с Кубани, другие вооружались против России.
Чтобы турки не предупредили нас в Крыму, пришлось двинуть туда войска. В экспедицию назначены два корпуса: князя Прозоровского в 20000 человек и графа де Бальмена в 5000.
1 ноября 1776 войска заняли Перекоп, прошли дальше, вошли в сношение с крымским правительством и местной аристократией, всячески обходя Девлет-гирея и показывая ему полное пренебрежение. Число приверженцев Шагин-гирея умножалось; на Кубани его избрали в ханы и делались приготовления к приезду в Крым.
В конце ноября 1776 Суворов получил приказание Потемкина выехать в Крым, о чем и донес Потемкину 26 числа, а 19 декабря уже писал ему из Крыма. Он поступил под начало князя Прозоровского, получив в командование пехоту, а 17 января 1777 принял от заболевшего Прозоровского временное командование всем отрядом.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: