Ричард Пайпс - Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1
- Название:Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Московская школа политических исследований
- Год:2001
- Город:Москва
- ISBN:5-93895-025-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Пайпс - Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1 краткое содержание
Струве: левый либерал 1870-1905. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, столь длительная связь Струве с социал-демократами подошла к концу, равно как и личные отношения с ними. После того, как были разорваны идеологические связи, исчезла и возможность дружбы, поскольку эти люди не отделяли личные отношения от служения делу.
Ненависть Ленина к Струве имела просто уникальный характер — в том смысле, что Ленин даже не находил нужным накинуть на нее флер объективности, которую обычно выставлял напоказ при рассмотрении всего, что попадало в поле его внимания.
Ленин жаждал мести. Отказавшись быть использованным, Струве превратился для него в объект охоты с использованием любого вида оружия, включая покушение на репутацию. В этой охоте к нему с большой радостью присоединился Мартов, дав волю своему развитому воображению и своим немалым журналистским способностям. Оба они не упускали ни малейшей возможности «выставить» Струве врагом российского рабочего класса, иудой, который, объявив себя борцом с самодержавием, на самом деле работал на него [596]. В ходе этой травли Ленин зачастую не стеснялся намеков на то, что ревизионизм как таковой зародился в недрах полиции [597]. Злоба, с которой Ленин начиная с 1900 года обрушивался на Струве, была вызвана не только опасением, что либеральное движение может стать потенциальным соперником в его борьбе за власть, но и внутренней потребностью уничтожить человека, являвшегося живым напоминанием о его прошлых ошибках.
Методы, к которым Ленин и Мартов прибегли для того, чтобы уничтожить репутацию Струве, имели значение, далеко выходящее за рамки взаимоотношений между этими тремя людьми: они означили то, что в действительности привело к разрыву между социал-демократией и либерализмом. Возникновение либерального движения на его собственной основе сводило на нет идею гегемонии, а вместе с ней и всю стратегию, на которой до сих пор базировалось социал-демократическое движение. И поскольку больше нельзя было рассчитывать на лидерство в национальном движении за политическую свободу, социал-демократы были вынуждены основательно пересмотреть свою политику [598]. Некоторые из них — будущие меньшевики — решили сосредоточиться на организационной работе среди трудящихся, другие — под предводительством Ленина — решили сформировать сплоченную нелегальную партию профессионалов, способных в подходящий момент захватить власть. Таким образом, корни исторического разрыва между меньшевиками и большевиками, происшедшего в 1903 году на Лондонском съезде партии, надо искать в состоявшемся двумя годами ранее падении идеи гегемонии, ярким показателем чего и стал разрыв со Струве. Однако прекращение отношений между социал- демократами и либералами имело и менее отдаленные исторические последствия. Оставив надежды повести за собой «буржуазию», социал-демократы резко сдвинулись влево, и большинством из них овладели антилиберальные, антиконституционные и антипарламентские настроения. В конце концов либерализм и социализм в России оказались перед необходимостью бороться не только с самодержавием, но и друг с другом, результаты чего столь пагубным образом сказались на всех в 1917 году.
Кампания персональной травли, затеянная против Струве Лениным и Мартовым с одобрения Плеханова, шокировала даже многих читателей Искры , хотя они уже привыкли к полемическим приемам, которые любое теоретическое разногласие переводили в плоскость личных оскорблений и поношений. Однако то, что позволяли себе на этот раз Ленин и Мартов, по грубости и жесткости далеко превосходило то, что уже стало традицией. Среди тех, кто обратил внимание на это обстоятельство, был Н. К. Тахтарев, один из приверженцев экономизма. Однажды он прямо сказал Ленину, что считает неправильным называть Струве «изменником, ренегатом и новым Тихомировым». Такого рода обвинения могут лишь разжечь не нужные страсти у читателей Искры и привести к непредвиденным последствиям. Например, спросил он, «что если кто-либо из рабочих, фактически преданных делу, под влиянием травли Струве на страницах “Искры”, вдруг решится расправиться с ним или даже убьет его как “изменника и ренегата”?» На что Ленин невозмутимо ответил: «Его и надо убить» [599].
Суть фанатизма, по словам американского философа Сантаяны, заключается в удвоенных усилиях при давно забытых целях.
ЧАСТЬ III. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Идея свободы является единственной светской идеей, способной зажечь сердца.
Струве в Париже (22 января 1932)
Глава 12. Философия и политика либерализма
Однажды Струве пришел в голову вопрос — каким образом получилось так, что Пушкин, почитаемый россиянами как величайший национальный поэт, получил относительно малое признание за рубежом. Отвечая самому себе, Струве пришел к выводу, что Запад всегда интересовался русской культурой лишь постольку, поскольку обнаруживал в ней своеобразную экзотику. Пушкин для Запада был слишком «западным», слишком близким к его собственной литературе. Mutatis mutandis — точно таким же образом можно объяснить и индифферентность, проявленную Западом по отношению к русскому либерализму. На протяжении почти полувека, предшествовавшего падению «старого режима», либерализм был доминирующей среди российских образованных слоев политической философией; начиная с 1860-х по 1905 год, ознаменовавшийся конституционным манифестом, либерализм представлял из себя ту силу, которая стояла практически за всеми конструктивными изменениями, проводимыми сверху царским правительством [600]. Однако в отличие от анархистов или славянофилов в либералах не было ничего экзотического. Среди них не было ни Бакуниных, ни Нечаевых, ни Достоевских, которые так интриговали Запад и давали ему возможность воспринимать Россию как совершенно чужую и весьма странную страну, судьба которой в тот момент его никоим образом не касалась.
На самом же деле российская либеральная традиция, опирающаяся на уверенность в том, что политическая власть в стране должна базироваться на законах и выборных институтах, является ничуть не менее древней, чем традиция самодержавия. С того самого момента, как русская монархия предъявила свои притязания на абсолютную и никем и ничем не ограниченную власть, ей постоянно приходилось бороться с общественными группами и отдельными личностями, заявлявшими, что она не имеет права ни на то, ни на другое. С начала XVI века каждый серьезный кризис в России осложнялся конфликтом между абсолютизмом и либерализмом — как в сфере идей, так и в сфере реальной жизни. В качестве примера можно вспомнить споры по поводу монастырского землевладения в XVI веке, войны Смутного времени в XVII веке и целую серию кризисов власти на протяжении всего XVIII века. Со времени царствования Екатерины II стремление к некоторому формальному ограничению монархии стало настолько значительной и неотъемлемой составляющей российской политической жизни, что самодержавие было вынуждено делать всякого рода реверансы, время от времени заявляя о своей приверженности принципам законности, иногда даже заговаривая о возможности конституции [601].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:









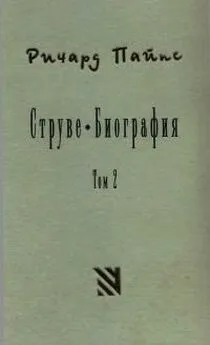
![Ричард Пайпс - Я жил [Мемуары непримкнувшего]](/books/1071983/richard-pajps-ya-zhil-memuary-neprimknuvshego.webp)