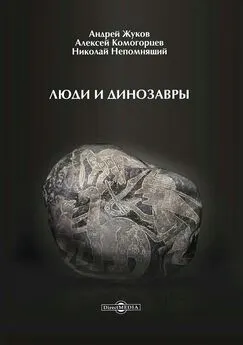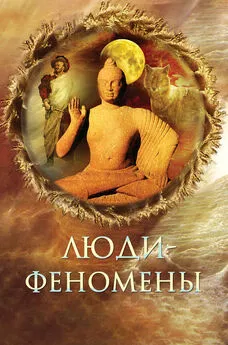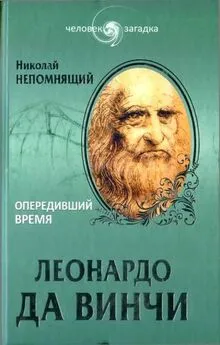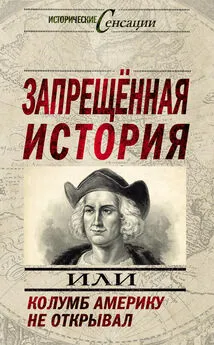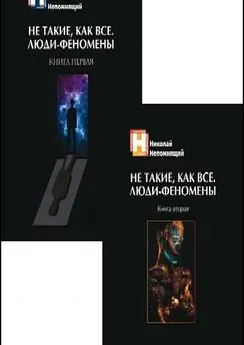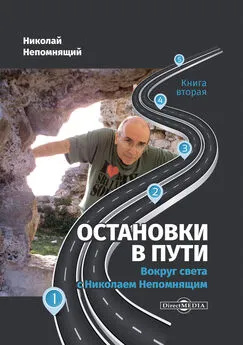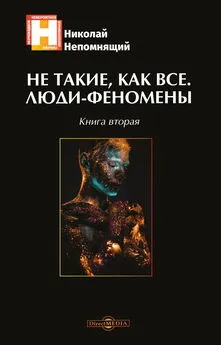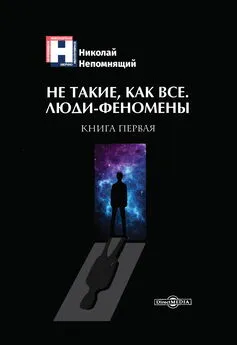Николай Непомнящий - Люди и динозавры
- Название:Люди и динозавры
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Директ-Медиа
- Год:2019
- Город:Москва; Берлин
- ISBN:978-5-4475-9991-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Непомнящий - Люди и динозавры краткое содержание
Люди и динозавры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пропп пишет: «Стоило бы ожидать, что герой схватится со змеем, убьет его и освободит царевну. Но в песне никакого боя нет. Георгий не убивает змея, а укрощает его: он произносит над ним заклинание или ударяет его своим «скипетром», и змей полностью смиряется. Он побежден как бы внутренней силой героя».
Далее Георгий предлагает Елизавете снять свой пояс, который он обматывает вокруг шеи змея, а конец его дает ей в руку, после чего они возвращаются к дому родителей Елизаветы. Именно этот момент изображен на иконе.
В песне сообщается, что Георгий предлагает родителям Елизаветы принять христианство. Если они согласятся, он убьет змея, если же нет, «я спущу змею лютую на твой град». Родители Елизаветы, конечно, сразу же соглашаются принять истинную веру, но Георгий требует еще, чтобы они поставили три церкви, и они соглашаются. На этом песня чаще всего кончается. Певцы совершенно забывают о змее. Формальный конец их мало интересует, но в отдельных вариантах сообщается, что Георгий расправляется со змеем и исчезает.
Аналогичный сюжет представлен на новгородской иконе XIV в. «Чудо Георгия о змие, с житием в 14 клеймах», хранящейся в Русском музее Санкт-Петербурга. Важно, что эта икона — древнейшая из всех русских икон, на которых изображен змееборческий подвиг святого Георгия. Первое, что бросается в глаза — поразительное композиционное сходство с фреской из Старой Ладоги. Пропп предполагает, что это совпадение свидетельствует не о влиянии фрески на икону, а о том, что данный тип иконы был традиционен для определенного исторического периода.
На новгородской иконе Георгий сидит на белоснежном коне. Сидит совершенно прямо, без всякого изгиба или наклона корпуса. Он не управляет конем, поводья ослаблены и провисают. Вопреки драматичности сюжета фигура Георгия абсолютно спокойна. Хотя он и держит в руках копье, но это не столько оружие, сколько знамя: на копье развевается вымпел. Весь его внешний облик соответствует сюжету, согласно которому Георгий не вступал со змеем в буквальную схватку, а победил его «заклинанием».
Пропп подчеркивает, что по своей фактуре икона весьма архаична, и фигура Елизаветы — наиболее архаическая ее часть: «Скованность и неподвижность фигуры — знак ранних, примитивных форм иконописания. Фигура Елизаветы вытянута вверх без всяких изгибов, так же как совершенно прямо на коне сидит Георгий и совершенно прямо, не извиваясь, по земле вытянулся змей».
В отличие от фрески из Старой Ладоги пояс на новгородской иконе обмотан не вокруг шеи, а вокруг затылочного рога чудовища. Заметим, что ровно тот же самый пояс фигурирует в истории св. Марты-Марфы, св. Лифара из Орлеана и в несколько видоизмененной форме столы в предании о св. Клименте и драконе Граулли. Ключ к пониманию скрытого символизма этого наиважнейшего образа содержится в славянской традиционной культуре. Главная функция пояса в рамках интересующего нас иконографического сюжета состоит в установлении связи между «своим» и «чужим» пространством, в частности, «старым» и «новым» домом. У белорусов известна традиция, в согласии с которой при переходе в новый дом хозяин притягивает всех членов семьи внутрь избы за нитку или пояс, а молодая жена, входя в дом мужа после венчания, бросает свой пояс на печь. В России считалось, что с помощью пояса можно «привязать» скотину ко двору. При первом выгоне скота в поле у восточных славян было принято расстилать в воротах пояс (чаще всего красный), его также привязывали к рогам коровы, клали пастухам в сумки и т. д. При покупке скота его вводили в новый дом через опояску, постланную у ворот. Во Владимирской губернии в этот момент приговаривали: «Забывай старого хозяина, привыкай к новому!»
Отсюда можно заключить, что рассматриваемый нами иконографический сюжет содержит мотив установления ритуальной взаимосвязи с чудовищем, тождественной его доместикации (одомашниванию). В этом свете отдельные концовки духовного стиха о Егории Храбром, сообщающие о финальной расправе Георгия со змеем, совершенно противоречат его основному содержанию и представляются результатом позднейшей творческой «доработки».
Невзирая на чрезвычайную редкость этого иконографического сюжета, именно он, по мнению Проппа, отражает наиболее архаические представления о содержании подвига святого Георгия: «На иконах данного типа нет непосредственной борьбы, есть покорение врага не силой, а внутренним совершенством героя».
Показательно совпадение данного, на первый взгляд, легендарного сюжета с мифологическими представлениями современных карачаевцев о том, что досаждающих змей следует не убивать, а заговаривать. В том же ряду находятся русские восточносибирские бывальщины о людях, обладающих особой властью над змеями («знающих слово»). Материалы по этой теме, собранные в 1966–1980 гг. на территории Забайкалья и Иркутской области советским фольклористом, кандидатом филологических наук В. П. Зиновьевым (1942–1983), относятся к 1920-м гг. «Знающие слово» не имеют ничего общего с вульгарными «заклинателями змей», которые «укрощают» пресмыкающихся на потеху непритязательной публике. Равно как и словацкие «чернокнижники», сибирские «знающие слово», как правило, — пожилые мужчины, выступающие в качестве функционального посредника между человеком и змеями. Это положение наглядно иллюстрирует следующая бывальщина из собрания Зиновьева:
«335. Это был один старичок, значит. Я вот так знаю, что дедушка Паша, а фамилию-то его не знаю. Тот был такой… тоже, видно, знал че-то. И вот если в случае где появились змеи, то, значит, его просят. Он даже сам носил змею через плечо, и на шее она обвивалась. Никогда его не трогала.
И вот если появились змеи, если кто хорошо принял его, значит, он этих змеев угонит. Сперва забиват какой-то колушек, потом прутиком несколько раз махнет и че-то пошепчет — уходят! Уйдут!
А кто уж если огорчит, то не рад будет. И покосу попустится. Ни грести, ни косить нельзя: змеев будет — хоть отбавляй!
И вот был случай в Золотой пади. Там прииски были, золото мыли. И мужики его попросили! Он шел мимо, оне его попросили. Он сказал:
— Давайте, я изделаю!
Но и действительно, изделал, поставил колушек, прутик взял в руку. Помахал — сама больша пришла, начала крутиться вкруг колушка, и за ней все пришли, в комок свились, шипели-шипели…
Он махнул прутом — она пошла вперед, и те за ей. Увела. Ушли и не стало» [12] Цитата по изданию: Мифологические рассказы русского населения Восточной Сибири. Сост. В. П. Зиновьев. Новосибирск: Наука, 1987. С. 229–230.
.
Колышек (осиновая палочка, или палка) и прутик являются непременными орудиями-атрибутами «знающих слово», встречающимися практически во всех бывальщинах. В народных верованиях похожая палка (посох, трость) фигурирует в качестве магического атрибута «знающих», которыми в традиционном русском обществе считались люди, обладавшие комплексом тайных знаний. К категории «знающих» принадлежат ведьмы, колдуны, знахари и некоторые другие ритуальные специалисты. Деление на колдунов и ведьм, которые делают «на зло», и знахарей, которые делают «на добро», сложилось в народном сознании под влиянием христианства. «Знающие» различаются по степени обладания магической силы и тайного знания: самые сильные ритуальные специалисты — ведьмы, обладающие наибольшим объемом магической силы, за ними следуют колдуны, магическая сила которых заключена в зооморфных помощниках, и далее — знахари, чья магическая сила заключена в заговорах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: