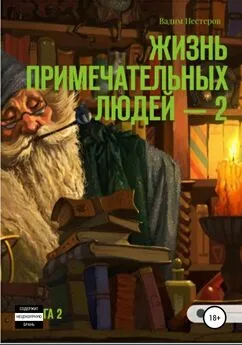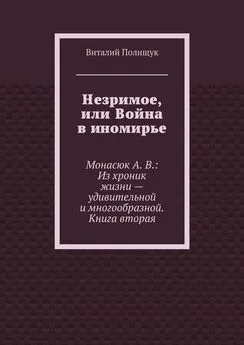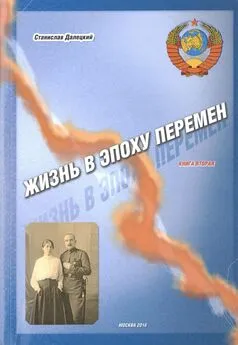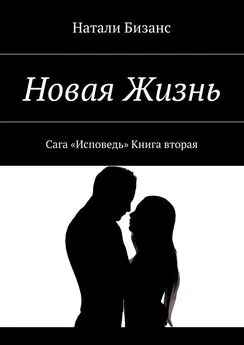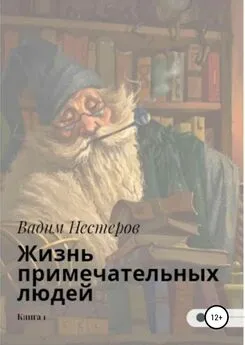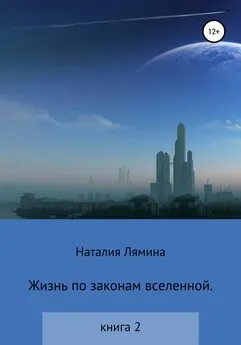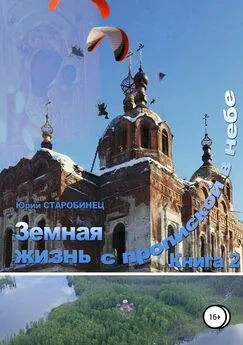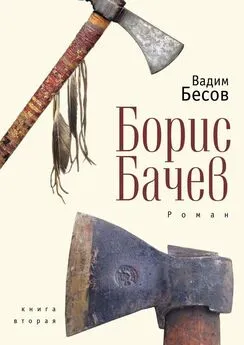Вадим Нестеров - Жизнь примечательных людей. Книга вторая
- Название:Жизнь примечательных людей. Книга вторая
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вадим Нестеров - Жизнь примечательных людей. Книга вторая краткое содержание
Жизнь примечательных людей. Книга вторая - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При этом Митурич вовсе не был затворником, не вылезающим из мастерской. Скорее, наоборот — как признавался сам художник, « в молодости путешествия по своей стране были у меня настоящей страстью. Побывал на Белом море, в Туве, на Камчатке, Курильских островах, в Средней Азии, Бурятии, на Памире, Алтае. Посетил и более двадцати зарубежных стран. Только в Японии был шесть раз. Когда рисуешь, пишешь акварель с натуры, то ничего не надо добавлять, придумывать, фантазировать. Работать же в мастерской по слайдам, по этюдам — этого я не делаю. Но сейчас, к сожалению, художники мало пишут с натуры, и это, по-моему, большой недостаток ».
Помимо «неугомонности», всех очень удивляла «разноплановость» Митурича. Может быть, именно многообразие впечатлений привело к тому, что художник пробовал себя едва ли не во всех возможных техниках: рисунок, акварель, живопись, литография, станковая и книжная графика, печатная гравюра, монументальная роспись, шелкография. В 1980 — 83 годах Митурич вместе с художником Дувидовым исполнил роспись на двухстах метрах стен в московском Палеонтологическом музее, и был удостоен за эту работу Государственной премии РСФСР и Серебряной медали академии художеств СССР. Кредо свое он сформулировал однозначно: « Я детства был воспитан так, что художник — это Художник, он должен уметь делать все. Леонардо был художником, но делал и вертела, и вертолеты. Я, конечно, не равняю себя с Леонардо, но настоящий мастер должен уметь многое ».
А потом настали странные времена. Времена, о которых художник однажды сказал в интервью: «Мое поколение, как мне кажется, не очень вписывается в изменившуюся жизнь… В советские времена давление ощущалось, но я не назвал бы это цензурой. Многое зависело от главного художника издательства. Да, были и худсоветы с проработками. Но ведь худсовет состоял из художников! И те проработки были просто детскими шалостями по сравнению с тем, что сейчас с художниками делает рынок.
По-моему, издательства сейчас стараются находить художников, пусть уж они не обижаются, где-то под забором, с тем, чтобы очень мало платить. Это очень печально, ведь то, что западает в душу в детстве, определяет представления человека на всю жизнь. Теперешний рынок оказался суровее прежних консерваторов и душителей, которые уже вспоминаются с улыбкой. Так что я теперь “бывший детский иллюстратор”».
В 90-е годы Митурич уехал по приглашению в Японию, где его всегда любили не меньше чем в России, и два года проработал там. Потом вернулся, продолжал рисовать, но новые работы были никому не нужны — книги с иллюстрациями Митурича не издавались более 15 лет. Только в 2004 году издательство Фортуна ЭЛ выпустило две давно подготовленные им книги японских сказок и новый вариант его знаменитого «Маугли». Увы, никакого продолжения не последовало до смерти Митурича в 2008 году.
Художник при этом никогда не жаловался: « Я действительный член Российской академии художеств, член ее президиума — и это дает мне какой-то прожиточный минимум. Поэтому считаю свою жизнь вполне благополучной. Многие мои друзья живут не очень хорошо ».
Митуричу вообще не везло в последние годы — даже приуроченная к 80-летию персональная выставка в Третьяковке по времени совпала с первой масштабной выставкой Энди Уорхола, и мало кто из прорвавшихся посмотреть на отца поп-арта замечал у туалета еще одну вывеску: «Май Митурич. Рисующий светом».
Последняя прижизненная выставка Мая Митурича прошла в магазинах детской обуви «Весело шагать».
И хуже всего, что все это происходило не потому, что кто-то обижал и не пускал. Проблема в том, что это действительно мало кому надо. Вот и эту главу, предполагаю, дочитает человек 30. Длинные тексты вообще плохо "заходят" в последнее время, а уж на такую тему…
С другой стороны — что же теперь, не писать и не рисовать, что ли?
Глава 40. Режиссер, который жил как акула
Был такой режиссер-мультипликатор — Борис Степанцев. В нашей мультипликации не было другого такого экспериментатора. Он не умел останавливаться. Он не умел "продолжать". Он был как акула, которой, чтобы жить, надо двигаться вперед.
Он несколько раз добивался бешеного успеха, его фильмы смотрела вся страна — но он без жалости закрывал "выстреливший" проект, чтобы сделать что-то другое.
Сегодня его, наверное, посчитали бы идиотом.
Он несколько раз делал суперуспешные проекты — уже третья его работа в качестве режиссера произвела фурор — это были «Петя и Красная шапочка». И что же он делает? Продолжает разрабатывать найденную жилу, как это сделал, при всем уважении, Котеночкин? Нет, пускается в эксперименты.
Делает первый советский широкоэкранный мультфильм — "Мурзилка на спутнике". Потом в фильме «Только не сейчас» совмещает живого актера с рисованными персонажами.
Потом опять суперуспешный хит — «Вовка в тридевятом царстве». И немедленно после него Степанцев подвязывает с детской мультипликацией и переходит на взрослую.
Совсем давно, еще до войны, был такой маленький кинотеатрик на Страстном бульваре. Назывался он «Новости дня». И был он в то бестелевизионное время основным культурным центром для окрестной ребятни, так как билеты туда стоили дешевле мороженого, а показывали там только замечательные вещи: хронику, спортивные новости и, главное, — мультипликацию. Вот там-то я и полюбил ее навсегда. За то, что смешнее ее на свете не было. А довоенная мультипликация быть не смешной стеснялась. Да и не умела.
Я долго верил в то, что мультипликация это потеха, а остальное — от лукавого. И делал фильмы, в которые старался втиснуть действительность, увиденную через призму комической деформации. Только вот мало-помалу зубоскальство стало несколько утомлять. Усомнился я в том, что мультипликация обречена быть смешной. И решил попробовать вещь заранее невозможную — сделать мультипликацию про любовь. Оглядываясь назад, отчетливо видишь, какие огромные возможности открывались на этом пути. Но выразилась в фильме лишь половина задуманного и желаемого. Мы не смогли одолеть производственного конвейера в студии, да и в самих себе, в своих навыках и привычках.
Борис Павлович делает «Окно» — фильм о муках любви на музыку Сергея Прокофьева.
Потом еще один «взрослый» фильм — «Песню о соколе», где опять экспериментирует — применяя метод живописи по целлулоиду. Получает кучу призов на международных кинофестивалях.
А потом опять возвращается в детскую мультипликацию, чтобы сделать великого «Карлсона». И опять таки — создав два фильма по этой книге, закрывает франшизу. Нельзя, нельзя эксплуатировать уже найденное, надо искать дальше, открывать что-то новое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: