Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2
- Название:Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1334-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Добренко - Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2 краткое содержание
Поздний сталинизм: Эстетика политики. Том 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В «Хрусталеве» мы имеем дело со смесью фантастического гротеска (некоторые критики даже вспомнили о бахтинском «романтическом ночном гротеске» [725]) и документальной реальности, если не сказать документального натурализма. Программная невнятность фильма (сюжетная, визуальная, акустическая), своеобразный эстетический аутизм провоцируют символические интерпретации. «Мир „Хрусталева“ – пишет Михаил Ямпольский, – есть огромная груда вещей, людей и мелких событий, которые внешне не имеют никакого смысла. Смысл тут проявляется ‹…› именно в прорывах внеисторического» [726]. Одни находят в картине карнавал, другие – Ад, третьи – Апокалипсис… Нисколько не отрицая подобные «внеисторические» прочтения, хотелось бы обратить внимание именно на историзм и фактурность картины Германа.
Трудно не согласиться с писавшими о фильме: «Хрусталев, машину!» – это «грандиозное закрытие советского кино, по мощи конгениальное его феномену», в нем «суть эпохи сконцентрирована в такой степени, что воздух обжигает легкие» (Евгений Марголит) [727], в «Хрусталеве» «хаос преднамеренный, автор хочет показать сталинизм через бытие повседневной, абсурдной и хаотической жизни. ‹…› Я воспринимаю этот фильм как онтологию сталинизма ‹…› фильм Германа показывает, что зло – это мы сами» (Владимир Юст) [728], «Главное, по-моему, достижение Германа и Кармалиты в том, что их фильм мощно и убедительно будит в зрительском сознании образ главных переживаний зимы 53-го» (Владимир Тольц) [729].
И действительно, едва ли не все в фильме объясняется установкой на «реализм в высшем смысле», начиная с его программной невнятности. Подчеркнутая «антикоммуникативность» картины [730] – не только прием. Она – продукт травматики сталинского коллективного бессознательного. Его замкнутость, порождающая коловращение, воспроизводит не только Дантов Ад, но и то, что Рыклин называет «языком травмы» (начиная с 1930‐х годов, «СССР стал отгораживаться от окружающего рационализма особым, нерасшифровываемым языком травмы» [731]).
Именно здесь следует искать истоки эстетики «Хрусталева». Поэтому вполне понятная на рецептивном уровне реакция зрителей на «Хрусталева» – «раздражение, вызванное неспособностью расслышать, разобрать и – тем более! – понять весь текст фильма» – нуждается в рационализации. В конце концов, как замечает Антон Долин, фильм Германа
и не рассчитан на семантическую внятнocть. Перед нами – бормотание самой жизни, коллаж из слов, не уступающий джойсовскому. Мы присутствуем при сотворении новояза, постижимого единственным носителем. Он же создатель. Этот звуковой фон можно и нужно слушать как «конкретную музыку», в которую вкраплены и шлягеры, и фрагменты из опер, и другие мелодии, распознаваемые лишь на периферии сознания [732].
Верно ли, что язык этот, звучащий беспокойной музыкой для зрителя, доступен только автору? Скорее, это «шум времени», в котором личный и глубоко травматичный опыт автора расширяется до коллективного. Известно, что фильм задумывался как синтез, последний жизненный аккорд. Как вспоминал Герман,
…идея возникла, когда я решил, что умираю. Я в очередной раз тогда заболел и боялся идти к врачу. ‹…› Я взялся за «Хрусталева», не представляя себе, во что это выльется в разваленной стране. А снимал его как последнюю картину, собирался умирать. Правда, потом нервы сдали, я пошел на обследование в клинику, и ничего опасного у меня не нашли. Однако идея «умереть и оставить» уже была и осталась ведущей во всем фильме [733].
Примечательно, что это завещание сфокусировано на образе отца и обращено именно к дням смерти Сталина – этой фокальной точке советской истории. Герман помнил своего отца вплоть до его безвременной кончины в 1967 году, но из тридцати лет, прожитых при его жизни, он остановился именно на этих нескольких днях советской истории. Примечательно и то, что хотя по возрасту сам Герман принадлежал к поколению шестидесятников, в поисках исторического синтеза он обращается не к февралю 1956 года, а к февралю 1953‐го. Несомненно, здесь присутствовал мотив завершения . Именно эта проекция, как представляется, определила успех картины. Она в значительной мере была новаторской, поскольку разрывала со сложившейся исторической перспективой, в которой позднесталинская эпоха (в отличие от начала ХX века, 1920‐х и 1930‐х годов), лишенная собственного интереса, рассматривается как своего рода канун оттепели. Герман не видит здесь продолжения. Для него это не только конец эпохи, но и, по сути, конец России. Он создал, как проницательно заметил Акош Силади, «кинообраз мертвой России » [734].
Иными словами, это в такой же мере фильм о 1953 годе, как и о 1998‐м. Сам Герман скажет о том, что для него между этими двумя точками нет разницы.
Все дело в нас, потому что и КПСС, и госбезопасность, и все, это все сидит в нас. Это все наша закваска, наш менталитет. Поэтому этот глоток свободы, который вдруг разрешили сделать России, он ни к чему не привел. ‹…› Пожалуйста: пожили некоторое время, частично по-другому. Ну и что? Что получилось? Барство дикое, рабство черное, вот и все. Кинематограф, кинематографисты с восторгом встретили новую власть, почему-то считая, что она пошлет своих детей в Сорбонну ‹…› а оттуда они уже вернутся другими людьми и будут преобразовывать Россию или в Сорбонну или в английский университет. Поверьте мне: пошлют они юных бандитов – приедут новые бандиты. Ничему они там не научатся, учиться не будут, даже английского языка не выучат. Ничего этого не будет. От бандитов рождаются бандиты. В России. Может быть, в Америке от бандитов рождаются президенты, это я не знаю. А у нас от бандитов рождаются бандиты. ‹…› И поэтому мы как-то так и выстраивали это кино, оно переживало какие-то все время мутации, вот мы туда, туда, туда-то… пока мы не пришли вот к этому кино, которое можно обозначить одним словом: «Нет». Вот если сказать, про что кино? Нет! Нет ни тому режиму, нет ни этому [735].
Ответ одинаков потому, что страна и режим в ней те же – «бандитские». Герман возвращался к этой теме постоянно. Отчасти потому, что опять же она была для него весьма личной. Бандитский мир был хорошо знаком ему с детства, со школы, которая была разделена между ворами и гопниками (и это была школа в элитном районе культурной столицы страны!): «За время большого террора, ГУЛАГа, амнистии страна не сделала и полушага к порядку. Даже в Италии на какое-то время победили мафию, a у нас – ничего», – сокрушался он [736]. Шпана занимает важное место в картине – по сути, к ней принадлежит весь мир за пределами квартиры Кленского – от уголовников и гэбэшников до Сталина и Берии, а в финале картины в нее погружается и сам Кленский. Для него это превращение оказывалось единственной формой свободы в тотально несвободной стране.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
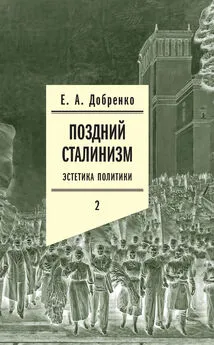
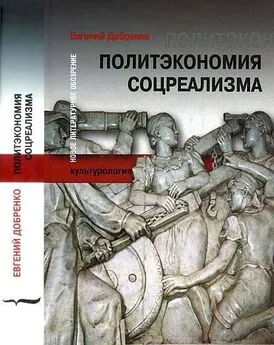

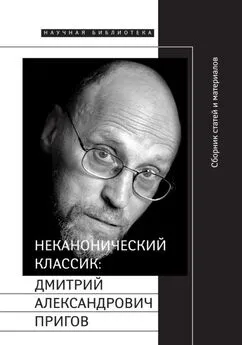


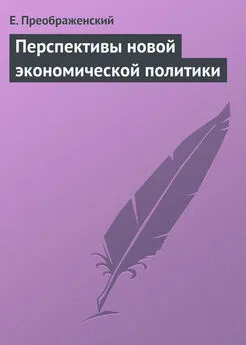
![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)


