Владимир Кузнецов - Очерки истории алан
- Название:Очерки истории алан
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ир
- Год:1992
- Город:Владикавказ
- ISBN:5-7534-0316-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Кузнецов - Очерки истории алан краткое содержание
Очерки истории алан - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
41. Бахтиаров А. Осколки «исчезнувших» аланов. Туркменоведение, 1930, № 8–9.
42. Якубовский А. Ю. Вопросы этногенеза туркмен в VIII–X вв. СЭ, 1947, 3.
43. Винников Я. Р. К истории формирования и расселения туркмен — хатаб, мукры, курама и олам, В кн.: История, археология и этнография Средней Азии. М., 1968.
44. Шаниязов К. Древние элементы в этногенезе узбеков. IX Междун. конгресс антропологических и этнографических наук (Чикаго, 1973). Доклады советской делегации. М., 1973.
45. Жданко Т. А. Очерки исторической этнографии каракалпаков. Труды ИЭ АН СССР, т. IX. М. — Л., 1950.
46. Толстов С. П. Города гузов. СЭ, 1947, 3.
47. Рерих Ю. Н. Тохарская проблема. В кн.: Народы Азии и Африки. М., 1963.
48. Абаев В. И. Скифо-европейские изоглоссы. На стыке Востока и Запада. М., 1965.
49. Капанцян Г. Историко-лингвистические работы. К начальной истории армян. Ереван, 1956.
50. Десятчиков Ю. М. Сатархи. ВДИ, 1973, 1.
51. Еремеев Д. Е. К семантике тюркской этнонимики. Сб. «Этнонимы». М., 1970.
52. Гмыря Л. Б. Некоторые особенности погребального обряда населения Восточного Предкавказья в IV–VII вв. н. э. XV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Махачкала, 1988.
53. Кудрявцев А. А., Гаджиев М. С. Дагестан и сармато-аланский мир. XV Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа. Тезисы докладов. Махачкала, 1988.
Глава III
Первые века на Кавказе
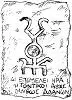
С древнейших времен Кавказ был естественным мостом, соединявшим Европу и Азию, Запад и Восток. Здесь пролегли исторические пути многих древних племен и народов. Но это был и великий естественный рубеж: громады Кавказского хребта отделяли север Кавказа от юга и на обоих его концах упирались в море. Преодолеть эту грандиозную преграду было нелегко.
Кочевые и полукочевые народы евразийских степей давно пытались форсировать Кавказский хребет и выйти в плодородные и богатые земледельческие долины Закавказья и Ближнего Востока. Существует научная гипотеза о передвижении древнеиранских племен из Юго-Восточной Европы через Кавказ в Иран на рубеже II–I тыс. до н. э. (1, с. 39; 2, с. 36–37). Это перемещение крупных масс населения скорее всего могло происходить через Дербентский проход. В VII в. до н. э. на юг Кавказа и в Переднюю Азию устремились другие ираноязычные кочевники Северного Причерноморья — скифы. Изученные в последние годы археологические памятники Ставропольского края, в первую очередь Краснознаменский могильник VII–VI вв. до н. э., свидетельствуют о расселении скифов в степях Ставрополья, где они оставили курганы с каменными панцирями. Погребения в каменных склепах и грунтовых ямах содержали ярко выраженный скифский материал, а под насыпью кургана I обнаружен каменный квадратный храм огня, аналогии коему известны в Иране (3, с. 43–48). Видимо, Краснознаменский могильник оставлен скифами, участвовавшими в походе в Переднюю Азию (4, с. 100–108) и вернувшимися обратно в степи Предкавказья, где оставались их семьи (5, с. 55) — так логичнее всего объяснять появление переднеазиатского храма огня, не свойственного собственно скифской культуре. Известны в степном Предкавказье и скифские каменные изваяния. Как считает М. П. Абрамова, в это время в степях Предкавказья господствуют не савроматы, а скифы (6, с. 47), хотя наблюдается и проникновение савроматских элементов, особенно на Северо-Восточном Кавказе.
В IV–II вв. до н. э. на территории Предкавказья появляются сарматские племена сираков и аорсов. О них мы уже говорили в первой главе. Напомним, что сираки расположились в районе между нижним и средним течением Кубани и Восточным Приазовьем, постепенно продвигаясь к востоку до рек Кума и Терек (6, с. 48); восточнее и северо-восточнее лежали земли аорсов.
Здесь следует кратко коснуться сложного и неоднозначного вопроса о камерных могилах-подбоях и катакомбах (конструктивно они близки и имеют вид подземных сводчатых камер, к которым с поверхности вели шахты или узкие наклонные коридоры — дромосы). Генезис данного могильного сооружения пока не выяснен, но на степных пространствах Северного Кавказа под-курганные катакомбы появились еще во II тыс. до н. э. в недрах так называемой «катакомбной археологической культуры» (7, с. 140–142). Есть попытки связать эту культуру с ариями (8, с. 37–38) или древними иранцами (1, с. 358, 370), но это не более чем самое осторожное предположение. Затем катакомбные могилы мы видим в скифских памятниках Северного Причерноморья, где они, однако, не господствуют, и в савроматской культуре Южного Приуралья (наиболее ранние в районе р. Илек, см. об этом выше в главе I.). Непрерывной и, следовательно, генетической связи скифо-савроматских катакомб с катакомбной культурой эпохи бронзы не прослеживается, и это не позволяет выстраивать их в один эволюционный ряд. Сако-массагетский подбойно-катакомбный обряд погребения, по-видимому, формируется под влиянием савромато-сарматского (9, с. 101–103; 10, с. 34). В целом же складывается впечатление, что подбои и катакомбы в массе своей (хотя не обязательно всегда и везде) приурочены именно к древнеиранским культурам, и возможно, прав Л. С. Клейн, усматривающий подземные погребальные камеры в «земляных домах» для мертвых под «горой», накрывающей смерть, т. е. курганных насыпях «Ригведы» (8, с. 37–38).
Согласно К. Ф. Смирнову, сарматская племенная группа «протоаорсов» из района р. Илек передвигается в Нижнее Поволжье — Подонье в III–II вв. до н. э., где возникает новый сарматский племенной центр в лице носителей прохоровской археологической культуры (11, с. 318). Новейшее исследование 3. А. Барбаруновой подтвердило эти выводы и показало, что центральным сарматским могильником Нижнего Поволжья был Бережновский могильник и другие могильники Бережновской группы. Наиболее яркой особенностью памятников этой группы является господство подбойных захоронений и нетипичность широкой четырехугольной ямы, характерной для других сарматских групп (12, с. 54, 59). Подбойно-катакомбный обряд погребения был с Илека перенесен в район Бережновки — Политотдельского и отсюда, по-видимому, стал продвигаться на юго-запад и юг вместе с сарматским населением. Сарматские подбои и катакомбы появляются в Калмыкии (см. напр. «Три брата», 13, с. 118–152), в III–II вв. до н. э. — на Кубани (14, с. 195), на Боспоре, Нижнем Дону, в Ольвии (6, с. 48). Мы не останавливаемся на отдельных типах катакомб и рассматриваем здесь картину в целом, отвергая построения Л. Г. Нечаевой о принадлежности подбоев гуннам (15, с. 158–159).
На рубеже IV–III вв. до н. э. погребения в подбоях и катакомбах появились в степях Ставрополья; отмечена их близость погребениям раннесармат-ского времени Нижнего Поволжья и Южного Приуралья (16, с. 170 ел.). Во II–I вв. до н. э. интересующий нас погребальный обряд фиксируется уже в зоне предгорий Северного Кавказа: в кургане у с. Чегем II в Кабардино-Балкарии из 135 погребений 56 совершены в катакомбах и 11 в подбоях, т. е. 50 % (17, с. 169). Тогда же возникает позднесарматский — раннеаланский могильник на Нижнем Джулате (18), в I–III вв. н. э. у станции Подкумок в окрестностях Кисловодска (19, с. 60–69; 20). До этого времени сохраняются впускные в курганы эпохи бронзы сармато-аланские захоронения в катакомбах на территории Ставропольского края (21, с. 123–124). В формировании катакомбного обряда погребения и самого раннеаланского населения Центрального Предкавказья могли принять участие сильно к этому времени смешанные потомки скифов Северного Кавказа (6, с. 48–49).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










