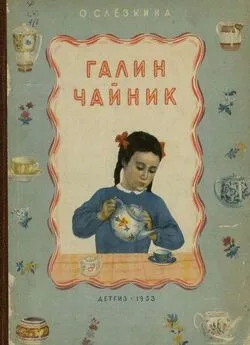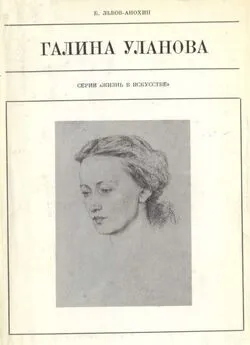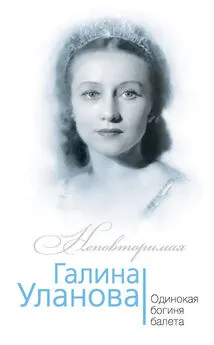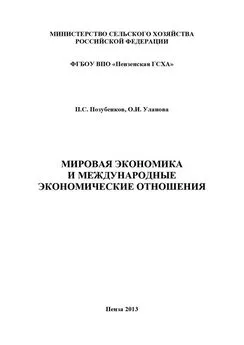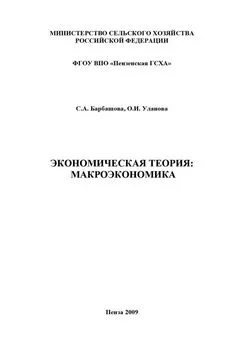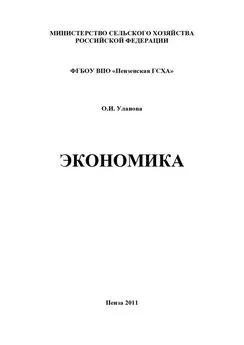Ольга Ковалик - Галина Уланова
- Название:Галина Уланова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:М.
- ISBN:978-5-235-03811-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Ковалик - Галина Уланова краткое содержание
Как смогла она, не обладая выдающимися внешними данными, взойти на балетный олимп? Как, в отличие от многих товарок, избежала навязчивого покровительства высокопоставленных ценителей прекрасного? На эти вопросы отвечает книга Ольги Ковалик, лично причастной к судьбе ее героини, вышедшей на сцену гением, а сошедшей с нее легендой.
[Адаптировано для AlReader]
Галина Уланова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Хотя в характерном классе Уланова была мало занята, но и этого было достаточно, чтобы на всю жизнь запомнить уроки Александра Михайловича Монахова, в свое время очень хорошего характерного танцовщика, чей сценический почерк отличался внешней сдержанностью эмоций при кипении внутренних страстей, умело управляемых артистической волей.
«На выпускном вечере мы, четыре девушки, танцевали мазурку. На большее у меня темперамента не хватало», — вспоминала Уланова.
В педагогическом созвездии театрального училища особое уважение снискал Владимир Иванович Пономарев, воспитавший легендарных новаторов танца Алексея Ермолаева, Вахтанга Чабукиани, Константина Сергеева, Николая Зуб-ковского, Леонида Лавровского, Леонида Якобсона. Он играл ведущую роль в создании методики мужского классического танца, подготовив для Улановой безупречных партнеров и великих хореографов.
«Владимир Иванович репетировал с нами то, что мы должны были делать на сцене. Выбирал он нас так: ставил пятнадцать — двадцать человек в линейку по росту и отбирал, сколько полагалось для того или иного балета, а еще — три-четыре человека в «запас». Потом он разучивал с нами танцы и мизансцены. Пономарева тоже все очень любили — всегда элегантно одетый, подтянутый, неизменно доброжелательный, тактичный. За глаза мы его звали «дядя Володя», но при нем — только по имени и отчеству. Никогда мы не слышали повышенного тона, хотя не всегда и не сразу усваивали нужное. Прекрасный классический танцовщик, он тогда еще продолжал танцевать. И мы в школе ходили подглядывать в дверную щелку, как дядя Володя репетирует. Он исполнял ведущие партии в «Жизели», «Лебедином озере», «Шопениане»… Владимир Иванович Пономарев и есть тот человек, который впервые выпустил меня на большую сцену».
С учетом невероятно трудной жизни в послереволюционные годы методологические основы ленинградской балетной педагогики сформировались неправдоподобно быстро. Дело, наверное, и в бесценном багаже, который достался советскому хореографическому театру в наследство от императорского, и в изменении самого отношения к служению в театре, приобретшему черты жертвенности. В 1934-м вышло первое издание книги А. Вагановой «Основы классического танца», в 1939-м увидел свет учебник А. Ширяева, А. Лопухова и А. Бочарова «Основы характерного танца» — непревзойденные пособия по основным балетным дисциплинам.
«В конце моей учебы появились новые уроки — спортивные, где нас обучали элементам акробатики. Мы делали сальто, кульбиты, шпагаты. Возникали споры: нужно ли это классическим балеринам и танцовщикам? Раньше ведь разрешали поднять ногу лишь на 90 градусов. Считали, что слишком растягивать ноги и вредно, и неэстетично. Доля правды в этом, бесспорно, есть, быть может, и немалая доля. А тут мы растягивали, как могли. Но сама жизнь, эксперименты молодых балетмейстеров диктовали появление таких уроков. А сейчас это уже прочно вошло в практику».
Уланова вписалась в социалистическую реальность и оказалась на передовом рубеже формирующейся советской хореографии. Даже в закулисье она была новатором — например, укоротила подол репетиционного хитона, чтобы полностью видеть ноги во время работы над па.
Конечно, в иерархии балетных дисциплин приоритет безоговорочно принадлежал классическому танцу.
Если в общеобразовательных аудиториях ученицы замерзали, то залы для обучения классическим танцам всё-таки протапливались, чтобы «дух теплился». Ведь холод — враг балета, из-за него мышцы долго не могут «настроиться» на тренировку. Впрочем, ничто не могло остудить любви будущих артисток к профессии. Воспитанницы занимались в шерстяных платьях, укутанные в теплые платки и кофты, и, по свидетельству известного танцовщика М. М. Михайлова, делали экзерсис, «удвоив старания, чтобы скорее разогреться». Работали с невероятным усердием, почти по «рецепту» придворного танцмейстера маркиза Па-де-труа из фильма «Золушка», который на вопрос: «Что же нам делать?» — отвечал: «Танцевать!» Л. С. Леонтьев справедливо окрестил своих юных питомцев «маленькими героями».
Через много лет после окончания училища Татьяна Вечес-лова спросила подругу, трудно ли ей давались уроки на первых порах, и получила незамедлительный ответ: «Мне всегда было трудно. А в первые годы я и вовсе не чувствовала никакой радости от занятий. Танцевала, зная, что так надо. Но огорчений было больше, чем удовольствия». О своих не только «технологических» мучениях Уланова вспоминала:
«…каждое утро в 9 часов бывал урок. Я ждала этого часа не потому, что хотела заниматься, а потому, что могла увидеть маму.
Мама была не строгая. В этом даже был ее недостаток. Теперь я уже могу об этом сказать. Ее любили, но пользовались ее добротой. Со мною же она была очень строга, так как понимала, что кругом девочки такие же, как и я, и что меня никак нельзя выделять из других… Она мне часто говорила и перед занятиями, и дома: «Имей в виду, все знают, что ты моя дочь. Поэтому, если я не делаю тебе замечаний, ты не думай, что я не слежу за тобой. В классе я смотрю на тебя одним глазом, и если делаю замечание другому, то делаю его и тебе. Всё, что я говорю другим, касается тебя».
Из-за этого я мучилась, и первое время все мои экзерсисы проходили в слезах, и я мало что делала. Потом я привыкла, поняла всё и постепенно начала заниматься. Появилось и отношение, и любовь к труду.
Мы занимались в огромных залах, и было так холодно, что первые движения нам разрешали делать в шерстяных рейтузах, иногда даже в валенках. Мама же сидела в легкой тунике, и только на ногах у нее были теплые гамаши, которые она сбрасывала, чтобы показать нам то или иное движение. Мама танцевала в театре, поэтому сразу же, после урока с нами, переходила по крытому коридору, соединяющему школу с репетиционным залом, в класс, где взрослые артисты театра занимались своим ежедневным тренингом.
Такой пример художественной дисциплины не мог не быть заразительным для детей, едва переступивших порог школы. Это нас как-то подтягивало, обязывало быть внимательными и заниматься лучше».
К началу 1920-х годов в труппе Мариинского театра осталось немного танцовщиц, одаренных преподавательским талантом: Елизавета Гердт, Елена Люком, Мария Романова. И дело здесь не только в революционном катаклизме, изрядно проредившем труппу. Как справедливо отмечал балетмейстер Р. В. Захаров, «не каждый крупный артист может стать хорошим педагогом классического или характерного танца, не у всякого есть от природы необходимые для этого качества. Учитель должен обладать зорким взглядом, способностью подмечать малейшие погрешности в исполнении каждого из 12–15 учеников в своем классе, знать анатомию, уметь точно подсказать, какие мышцы надо ввести в работу в том или ином танцевальном движении».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: