Константин Кеворкян - Братья и небратья. Уроки истории [litres]
- Название:Братья и небратья. Уроки истории [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Книжный мир
- Год:2018
- ISBN:978-5-6041071-4-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Кеворкян - Братья и небратья. Уроки истории [litres] краткое содержание
В чем причина, и где истоки бандеровщины и мазеповщины, столь живучих на Украине? Почему население Украины оказалось настолько восприимчиво к нацистской пропаганде? Что происходит на Украине в последние годы, и какое будущее ожидает украинскую власть, экономику и народ?
Взгляд «изнутри» Константина Кеворкяна позволяет читателю лучше понять, как и почему Украина погрузилась в хаос гражданской войны, развал экономики и вымирание населения. Понять, чтобы не допустить повторение такого сценария в России.
Братья и небратья. Уроки истории [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Раздел IV.
Обрывки воспоминаний
Это было середина восьмидесятых годов конца прошлого века (звучит чудовищно), когда подпольная рок-музыка играла в жизни молодежи ту же роль, что и литература в начале двадцатого столетия. Собственно, вокруг поющих электрогитар крутилось все, неподвластное партии и комсомолу. Это сейчас бывшие комсомольские функционеры – уважаемые «демократы», а тогда они были пещерный отстой: в умах царили Борис Гребенщиков, Майк Науменко, Виктор Цой…
В подражание знаменитому Ленинградскому рок-клубу в Харькове был создан свой клуб, вокруг которого запузырилась сопутствующая, так сказать, «инфраструктура»: потребители портвейна, провозгласившие себя «продюсерами», безголосые юноши в роли рок-идолов и мы, не умевшие ни играть, ни петь, ни продюсировать. Мы умели только высмеивать и свои смешки воплощать в печатное слово. Слово вывешивалось перед концертами в виде стенгазеты (даже не знаю, как объяснить молодежи, что такое «стенгазета»), где-нибудь в фойе. Называлось она гордо – «Стратокастер». Содержимое – карикатуры, пародии, фельетоны на темы бурлящей рок-клубовской жизни. Не чурались мы и легкого фрондерства. Все тексты написаны от руки – печатными буквами, карикатуры нарисованы фломастером. Почему-то за память зацепились обрывки «Упыриных частушек» (в одном из номеров мы высмеивали потусторонние тексты доморощенных рок-мистиков):
«Поцелуй меня деваха, девка-упыриха,
Щас залезу под рубаху – ты завоешь тихо.
Ах вампир ты мой миленок, славный и клыкатый,
Ты в постели как теленок, импотент проклятый…».
Ну и дальше, в таком же разухабистом стиле. Толпа ржала, стукачи отстукивали донесения, музыканты нас ненавидели. Раньше писали и щебень разлетался, а теперь и снег не тает.
Как-то, собравшись для написания и рисования очередного выпуска газеты, в нашей доморощенной редколлегии родилась мысль: а не пора ли замахнуться на святое, на Вильяма нашего Шекспира, то есть сделать настоящее большое интервью с кем-нибудь из питерских гуру. Не пора ли нам становится взрослыми? У кого-то со слов ленинградских хиппи был записан домашний телефон Виктора Цоя… Или наоборот – сначала был телефон, а потом уже мысль позвонить? Или иначе – сначала был портвейн и пробужденная портвейном наглость.
Содрогаясь от собственной дерзости, мы с моего домашнего номера позвонили в Ленинград. Трубку взял сам Цой.
– Алло… – да, это был его неповторимый низкий голос. Мы стушевались, вечер-то поздний. Но никто из нас в угаре взаимного подстрекательства раньше о том не подумал. Мы вообще не предполагали, что он живой человек.
– Мы из Харькова, газеты тамошнего рок-клуба, хотели бы сделать с Вами интервью, – хором пищали мы, отталкивая друг друга от трубки, чтобы лучше услышать кумира.
– Сейчас уже поздно, – устало, но чудовищно вежливо ответил Виктор – в следующий раз с удовольствием.
…После мимолетного общения с Олимпом мы долго сидели потрясенные. Какой красивый голос, какие прекрасные манеры… И больше не звонили. А я усвоил один важный урок – дозвонился можно любому. Армяне нация нудная – дозвонятся всегда. Так я стал журналистом.
Литинститут как зеркало советской интеллигенции
«Сорок лет лучше, чем сорок дней», – подумал я и решился все же отпраздновать эту, обычно из суеверия не отмечаемую, дату.
Впрочем, я отмечал даже такой странный юбилей, как 36 и 6 (то есть 36 лет и 6 месяцев – самочувствие нормальное!). До того было тридцатилетие, запомнившееся первым в тогдашнем Харькове частным фейерверком и выходом в свет книги «Первая Столица». Ну, и конечно, мой первый «взрослый» юбилей – 25-летие. День рождения, ознаменовавшийся грандиозной дракой. Лупили украинского националиста, то есть меня, автора этих строк, Константина Кевор-кяна. О том, как человек с армянской фамилией стал украинским националистом, да и не только об этом, мой короткий рассказ.
Итак. В 1989 году я поступил в Московский литературный институт им. Горького – уникальный вуз, один из пяти институтов, готовивших профессиональные кадры для советского искусства (ВГИК, «Гнесинка» и т. д.). Конкурс – 26 абитуриентов на одно место, и даже успешно пройдя творческий конкурс, собеседование и сдав все четыре всту пительных экзамена на «5», я не был уверен, что меня примут в институт. Тем не менее, через некоторое время я стал студентом отделения прозы, зачисленным на творческий се минар знаменитого со ветского писателя Андрея Битова.
Андрей Георгиевич был педагогом своеобразным – относился к нам с легкой брезгливостью, появлялся нечасто и, по-моему, вообще не знал, что с нами делать. Помнится, на первой встрече со своим семинаром Андрей Георгиевич долго молчал, глядя в окно исполненным мучительного похмелья взором и, не отрывая взора своего от «прекрасного далека», наконец изрек: «Был я в Париже, увидел дерево и подумал – оно такое же, как и мы». И снова скорбно замолчал, глядя во двор. Мы, щенки, потрясенные глубокой мудростью услышанного от мастера и его тяжким похмельем, тоже молчали, стала мертвая тишина. Смеркалось. Битов встал и, не прощаясь, ушел.
Общежитие Литературного института располагалось в Останкине между трех замечательных промышленных объектов: тамошнего мясокомбината, молочного комбината и Останкинского пивзавода. В те довольно голодные последние годы советской власти это было солидным плюсом для местных магазинов и покупателей. Над головой, подобно флагштоку, гордо высилась знаменитая телевышка.
Первое, что бросалось в глаза стороннему посетителю нашего общежития – решетки на окнах и натянутые сетки между этажами. Таким образом руководство общежития боролось с эпидемией самоубийств среди отчаявшейся творческой молодежи, но все равно один-два смертельных исхода в год случались. Второе, что потрясало неподготовленного посетителя – стены сортиров, исписанные, простите, испражнениями. Словно древние иероглифы, высились эти неразборчивые надписи над головою входящего, и авторство их терялось в глубине веков. Все это пробуждало живейшее отвращение как к высокой духовности, так и к ее носителям. Скотские нравы общежития мирно сосуществовали с качественным литинститут ским образованием. Но как уживались между собой эти взаимоисключающие ипостаси, я до сих пор не могу внятно объяснить.
Среди штатных преподавателей нашего вуза числились: всемирно известный специалист по античной литературе Михаил Гаспаров, поэты Евгений Долматовский и Юрий Левитанский, драматург Виктор Розов. Приглашались для чтения лекций и другие знаменитости, например Наум Коржа вин и Венедикт Ерофеев. Автор бессмертной поэмы «Моск вa – Петушки» запомнился мне рокотом своего голосового аппарата (у Ерофеева к тому времени пропал свой голос) и опухшим лицом безнадежно пьющего человека. Разобрать в его лекции можно было лишь отдельные, синтезированные аппаратом слова, однако аудитория благоговейно и безропотно молчала – все понимали, что классику жить оставалось недолго. А руководил беспокойным и вздорным институтским хозяйством известный литературный критик Евгений Сидоров.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Константин Кеворкян - Братья и небратья. Уроки истории [litres]](/books/1078714/konstantin-kevorkyan-bratya-i-nebratya-uroki-istor.webp)
![Константин Кеворкян - Четвёртая власть Третьего Рейха. Нацистская пропаганда и её наследники [litres]](/books/1060573/konstantin-kevorkyan-chetvertaya-vlast-tretego-rejh.webp)
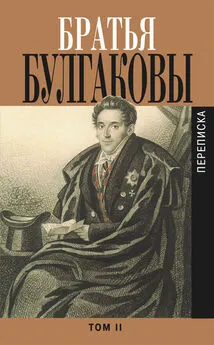
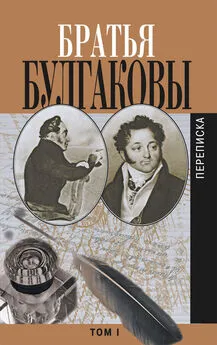
![Константин Кеворкян - Фронда [Блеск и ничтожество советской интеллигенции]](/books/1072097/konstantin-kevorkyan-fronda-blesk-i-nichtozhestvo-so.webp)

![Константин Сонин - Когда кончится нефть и другие уроки экономики [litres]](/books/1077723/konstantin-sonin-kogda-konchitsya-neft-i-drugie-uro.webp)



