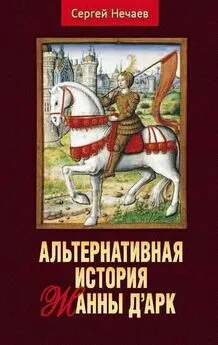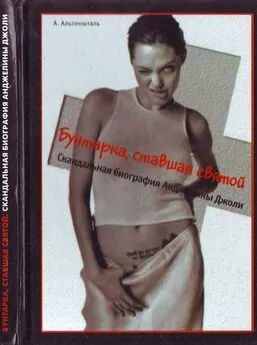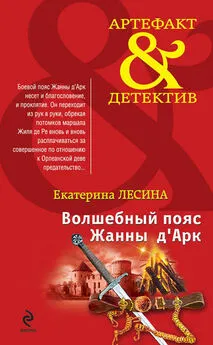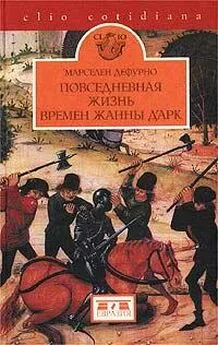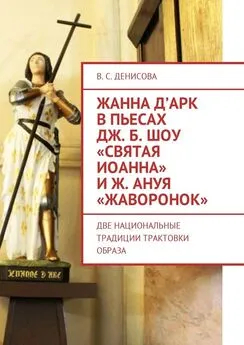Ольга Тогоева - Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк
- Название:Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив
- Год:2016
- Город:М.; СПб.
- ISBN:978-5-98712-644-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Тогоева - Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк краткое содержание
Работа основана на большом корпусе источников: материалах судебных процессов, трактатах теологов и юристов, хрониках XV в. и исторических сочинениях XVI–XVIII вв., художественных произведениях, материалах местного почитания Жанны д’Арк в Орлеане XV–XIX вв., трудах французских историков XIX в.
Для историков, литературоведов, культурологов и широкого круга читателей.
Еретичка, ставшая святой. Две жизни Жанны д’Арк - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Следует отметить, что подобные отзывы на «Девственницу» стали появляться еще до ее официальной публикации. Так, например, Франсуа-Антуан Шеврие еще в 1754 г. сообщал своим читателям, что существует «две поэмы, способных обессмертить имя Девы»: одна из них поражает своей нелепостью, вторая — глубиной сюжета, разнообразием деталей и интересных эпизодов [2185]. Таким образом, он противопоставлял Шаплену, «лишенному поэтического таланта», Вольтера — «тонкого и редкого гения» ( ce génie sublime et rare ), достигшего в «Орлеанской девственнице» таких вершин, которые делали уместным его сравнение с Ариосто [2186]. Вслед за великим философом Шеврие полагал «откровения», которые якобы получала Жанна Свыше, не более чем следствием ее самовнушения, которое было в ее случае столь велико, что смогло убедить и окружавших ее людей [2187]. Он — как и Ж.-Б. д’Аржан — считал, что англичане изначально предъявили девушке обвинение в распущенности, однако, не будучи в состоянии его доказать, сожгли ее как ведьму [2188].
На схожих позициях стоял, как мне представляется, и Жан-Зоробабель Обле де Мобуи, заявлявший буквально в первых строках своих «Жизнеописаний знаменитых женщин», что он не является сторонником ни английской, ни французской версии событий, т. е. не считает Жанну ни ведьмой, ни святой [2189]. Его — как и Вольтера — интересовали лишь достоверные факты ее биографии, из которых он исключил многочисленные легенды, как, например, рассказ о Дереве Фей, являвшихся девушке там «голосах» и наставлениях во всех совершаемых ею поступках, которые она якобы от них получала [2190]. По мнению самого Обле, решение идти к Карлу VII созрело у Жанны по той простой причине, что ей не хотелось провести всю жизнь в деревне [2191], силе же ее слова мог позавидовать любой: она не только саму себя убедила в собственной избранности, но смогла заставить поверить в нее и Робера де Бодрикура, и короля [2192].
Обычным человеком, принесшим славу своей стране, представала Жанна и у Жан-Пьер-Луи Люше. Несмотря на то, что «большинство историков», как он отмечал, почитали девушку святой [2193], сам он отказывал ей в данном статусе. Люше не верил в легенду с узнаванием переодетого дофина [2194]. Он полагал, что Провидению было совершенно все равно, каким именно путем продвигались королевские войска к Орлеану, и не усматривал в их походе ничего чудесного [2195]. Советы Жанны при обсуждении боевых операций Люше склонен был полагать не более чем «загадочными» ( énigmatiques ) и весьма далекими от истинных откровений Свыше [2196]. Следует еще доказать, писал он, что Орлеанская Дева действительно являлась боговдохновенной, как, впрочем, и то, что ее пророчества не были обычными угрозами по отношению к врагу. Следует доказать, что она была настоящей девственницей и что это последнее обстоятельство хоть как-то было связано с «небесными секретами», которые ей якобы сообщали [2197].
Схожим образом рассматривал появление Жанны д’Арк на политической сцене и аббат К. Милло. Ясно давая понять своим читателям, что придерживается точки зрения Вольтера, он писал, что девушка действительно стала «главным инструментом» ( le principal instrument ) для спасения Франции, однако причиной тому была не ее боговдохновенность, в которую она верила, но ее собственное воображение и желание помочь своей стране избежать «ужасов войны» [2198]. Лишь ее настойчивость привела к тому, что советники Карла VII и его капитаны решили воспользоваться неожиданно представившейся им возможностью: иными словами, то была не политическая интрига, но воля случая, когда «авторитет Девы ( l’autorité de la Pucellé ) заставил всех действовать» [2199].
Важно, как мне представляется, отметить, что большая часть сторонников Вольтера и его версии истории Жанны д’Арк относились к «Орлеанской девственнице» как к историческому сочинению [2200]. Один лишь Шарль Палиссо (1730–1814) просил своих читателей видеть в поэме не серьезное произведение, а всего лишь «шутку» ( un ouvrage de plaisanterie ) [2201]. Ту же интересную тенденцию мы наблюдаем и среди критиков великого философа, основным сюжетом сочинений которых стало отрицательное отношение Вольтера к официальной церкви и насаждаемому ею культу святых.
Первые критические отклики на «Орлеанскую девственницу» — как и первые хвалебные отзывы на нее — появились в печати еще до официальной публикации поэмы. Уже в 1756 г. (т. е. сразу после издания первой пиратской версии текста) в « Bibliothèque impartiale » было опубликовано «Письмо Вельзевула автору «Девственницы»» Клод-Мари Жиро. В 1760 г. это поэтическое сочинение вышло в Женеве в виде отдельной брошюры. Называя Вольтера своим «дорогим сыном», Сатана сообщал адресату, что перо писателя помогло ему «увеличить число своих подданных больше, чем врачи, чума и англичане вместе взятые» [2202], ибо развенчивая культы святых, которых «создает» Рим, Вольтер отправляет их прямиком в ад [2203]. В благодарность дьявол обещал своему «другу» поместить его имя в свой собственный список святых ( parmi les Saints de mon calendrier ) [2204]. Ту же мысль Жиро развивал и в следующем произведении — «Письме дьявола господину Вольтеру», опубликованному в 1760 г., а затем переизданному в 1761 и 1762 гг. Здесь автор «Девственницы» именовался «лейтенантом ада» ( Lieutenant des Enfers ), «истинным дьяволом» ( Diable à plus d’un titre ) и «самым лучшим» из всех врагов папы римского, которые перешли на сторону Нечистого [2205]. Благодаря его гению «тирания неправедной религии» ( de la Religion l’injuste tyrannie ) постепенно утрачивала свою силу, а «корабль папизма» ( la barque de Papisme ) шел ко дну [2206]. Дьявол вспоминал, что и прежние сочинения Вольтера заставили говорить о нем как о наиболее значимом из всех писателей, выступающих против Бога ( conjurés contre Dieu ) [2207]. Однако появление несравненной «Девственницы» ( Pucelle incomparable ) ожидалось особо: она была нужна, дабы увековечить славу ее автора и оправдать все надежды Сатаны на низвержение Господа [2208]. «Когда я прочел ее, — восклицал дьявол, — мне захотелось забрать тебе к себе. Но я все же решил оставить тебя в земном мире, где ты с таким успехом служишь аду» [2209].
Менее изысканная, однако более историчная критика, нежели в поэтических сочинениях Жиро, содержалась в «Историческом словаре» П. Барраля 1758 г., писавшего, что Вольтер, «никогда ни к чему не относившийся с уважением», нелепо спародировал сочинение Шаплена, превратив его в «поэму-бурлеск», в которой в значительно большей степени заметны «извращения его воображения», «черствость его сердца» и «странное желание оскорбить добрые нравы и противопоставить себя всему, что религия почитает самым святым», нежели «острота его ума» [2210]. Для самого Барраля Жанна, вне всякого сомнения, оставалась «Божественным существом», «избранницей Господа», в которой окружавшие ее люди чувствовали «нечто сверхъестественное» и которая погибла «как мученица за религию, свою родину и своего короля» [2211]. Не менее жестко критиковал Вольтера и Л.-М. Шодон, отмечавший, что этот автор достоин предстать перед судом общества, а также перед церковным трибуналом, поскольку ничего святого для него не существует [2212]. Так же полагал и Г.-А. Гайар, выступавший против «философии», которая «извращает факты» и стремится представить Деву всего лишь «инструментом в руках политиков» ( un instrument entre les mains politiques ) [2213], тогда как в действительности речь идет о «чудесном» и «необъяснимом» явлении [2214]. На тех же позициях стоял и М. Мерсье, писавший, что Вольтер оклеветал исторических персонажей, «достойных нашего почитания» ( dignes de notre vénération ) [2215].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
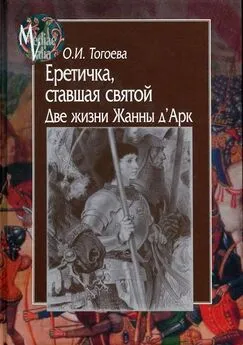
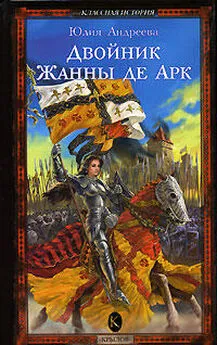

![Наталья Александрова - Ладанка Жанны д'Арк [litres]](/books/1058328/natalya-aleksandrova-ladanka-zhanny-d-ark-litres.webp)