Майкл Грант - Греческий мир в доклассическую эпоху
- Название:Греческий мир в доклассическую эпоху
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1998
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Майкл Грант - Греческий мир в доклассическую эпоху краткое содержание
Греческий мир в доклассическую эпоху - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В своей «Елене» Стесихор выбрал наиболее расхожую версию мифа, согласно которой героиня охотно поддалась на улещения Париса, — и описал ее отплытие в Трою. Зато в знаменитой «Палинодии», написанной вслед за тем, он отрекается от прежнего стихотворения, говоря, что сама Елена побудила его опровергнуть обман: она вовсе не была в Трое, а в том, что все верят обратному, виноват Гомер (во второй «Палинодии» Стесихор возложил вину на Гесиода). Такой попятный шаг Стесихора отражал чисто «мужской» взгляд: столь великая война не могла вспыхнуть из-за какой-то женщины, — но, возможно, им двигало и желание полнее развить тему, уже принесшую ему успех у публики.
А быть может, он надеялся унять обиду тех, кто чтил Елену как богиню: среди них были, например, граждане Спарты которым Стесихорова «Орестея», приписавшая смерть Агамемнона их городу, немало польстила. Возможно также, что это была первая попытка наполнить это событие тем трагичным нравственным значением, на которое затем сделает упор Эсхил. Наверное, стихотворение предназначалось доя исполнения на весенних празднествах — хотя ныне ведутся споры о том, действительно ли Стесихор сочинял стихи доя таких хоров, или — по одной высказанной догадке — декламировал их сам.
В «Европе» Стесихор обращается к фиванскому циклу эпических сказаний, описывая легендарное основание этого беотийского города и излагая миф об Эрифиле, неверной жене Амфиарая, которую затем умертвил их сын Алкмеон. Поэту удалось живописать трагические последствия любви с удивительной полнотой и убедительностью. И если, как сказано выше, он выступал продолжателем эпико-героической повествовательной традиции, то он вносил в эти старинные темы трепетную новизну и изобретательность, уже предвещавшие накал афинской трагедии, рожденной последующими поколениями греков.
Стесихоровы «Погребальные игры в честь Пелия» затрагивали историю об аргонавтах и обнаруживали знакомство с Черным морем, где совершалось их легендарное плавание, а также с морскими путешествиями современной поэту эпохи. Была у него и басня о коне, которого прогнал с пастбища олень: конь обратился за помощью к человеку, но потом уже не смог от него избавиться. Очевидно, за этой притчей скрывалась подоплека местных событий: говорили, что Стесихор таким образом остерегал гимерян, враждовавших с соседями-варварами, не обращаться за поддержкой к Фалариду, которому он уже пытался помешать самовластно водвориться в Акраганте (ок. 570–554/549 гг. до н. э.; примечание 64).
Поэт был наслышан и о серебряных копях в Тартессе, на юго-востоке Испании. Это явствует из некоторых строк Ге-риониды — одного из его стихотворений о Геракле, очевидно, представлявшего самый ранний подробный рассказ о мифическом посещении героем Северо-Западной Сицилии (где он совершил свой десятый подвиг, одолев чудовищного Герио-на). Возможно, внимание Стесихора к такой теме уже ознаменовало пробудившееся стремление греческих колонистов отторгнуть все здешние земли у финикийцев и карфагенян — стремление, которое в дальнейшем обернется непрестанными войнами (ср. примечание 63).
Ксенофан — философ-поэт, или чрезвычайно самобытный и придирчивый мудрец-богослов, — служит живым доводом против географического принципа, положенного в основу настоящей книги, потому что он непрестанно странствовал с места на место, из края в край (ср. Главу I, примечание 4). Диоген Лаэрций приводит слова самого Ксенофана:
Вот уже семь да еще шестьдесят годов миновало,
Как с моей думой ношусь я по элладской земле.
Отроду ж было тогда мне двадцать пять, если только
Я в состоянии еще верно об этом судить 50.
Как добавляет Диоген Лаэрций, расцвет его пришелся на шестидесятую олимпиаду (540–537 гг. до н. э.); возможно, время его жизни — 570–475 гг. до н. э. Родился он в Ионии, в Колофоне, затем был изгнан из родного города (вероятно, в пору его захвата персами, ок. 546–545 гг. до н. э.), а позднее ♦жил в Занкле сицилийской, а также в Катане» 51. Иными словами, хотя Ксенофан вел бродячий образ жизни, он все же проводил значительную — или большую — часть времени в этих сицилийских центрах, и поэтому его удостоил внимания сицилийский историк Тимей 52. Ксенофан стал поэтом ионийского умственного просвещения на западе.
Одна из его элегий предписывала правила поведения во время пиршества 53: верно, он был почетным завсегдатаем и в домах знати, и на совместных пирах гетерий, исполняя там свои стихи. Хотя вкусы поэта отличались простотой, он был довольно привередлив, призывая к умеренности в общественных развлечениях. В то же время, он порицал общепринятые нормы воинственного поведения среди старой знати, которая, вслед за славословиями прочих поэтов, сверх всякой справедливости благоволила к борцам, возницам и кулачным бойцам. По разумению Ксенофана, полису приносят куда больше пользы подвиги не телесные, а умственные — например, его собственная мудрость.
Большая часть сохранившихся фрагментов его поэзии написана элегическими дистихами или гекзаметрами, хотя порой попадаются и ямбы. Некоторые из таких стихотворений были отнесены к силлам (cnXXoi — «насмешки») — сатирическому жанру, обретшему известность тремя столетиями позже благодаря Тимону из Флиунта в Арголиде, признававшему Ксенофана своим литературным предшественником.
Что касается богословия, Ксенофан прославился прежде всего нещадным ниспровержением (при его-то ионийских корнях!) тех картин из жизни богов, что были представлены в гомеровском эпосе, а также в поэмах Гесиода. Во-первых, заявляет он, такое изображение богов существами вероломными и порочными не может быть истинным. Во-вторых, не менее нелепо представлять себе богов в людском обличье. Он предлагает такое толкование: они представлены в антропоморфном виде лишь потому, что такими их живописуют сами люди. В связи с этим, он развивает далее свою релятивистскую точку зрения, говоря, что каждый народ наделяет божества собственными этническими чертами: так, фракийцы воображают своих богов рыжеволосыми и голубоглазыми, а эфиопы — черными и с приплюснутыми носами. И продолжает:
Если бы руки имели быки и львы или кони,
Чтоб рисовать руками, творить изваянья, как люди,
Кони тогда б на коней, а быки на быков бы похожих
Образы рисовали богов и тела их ваяли,
Точно такими, каков у каждого собственный облик 54.
Сам же Ксенофан не отрицает существования божественного начала. Только толкует он его совсем иначе, наделяя незнакомыми дотоле духовными свойствами: этот бог есть вечное и неподвижное сознание (здесь философ предвосхищает «неподвижный двигатель» Аристотеля), и «помышле-ньем ума он все потрясает» 55. Иными словами, он правит миром одною силой духа и разума. Так, мыслитель ввел понятие о божественном разумении, пронизывающем все сущее и управляющее всеми делами. По словам Ксенофана, такой бог «не похож на смертных ни обликом, ни сознаньем» 56. Правда, и сам он говорит о «богах», употребляя выражения, отдающие политеизмом 5^. Но, быть может, это всего лишь дань поэтической условности — или уступка расхожей терминологии. Все же, представляется более вероятным, что Ксенофан мыслил в монотеистическом ключе — возможно, не без влияния персидских верований, которые проникли в Ионию еще прежде его переселения на запад.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

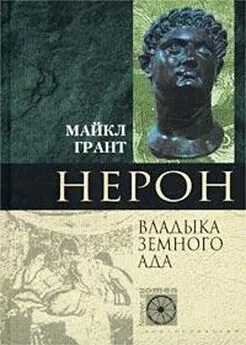
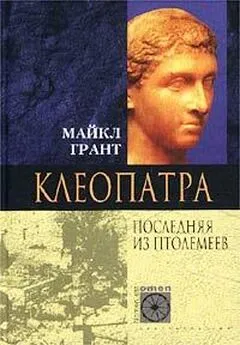


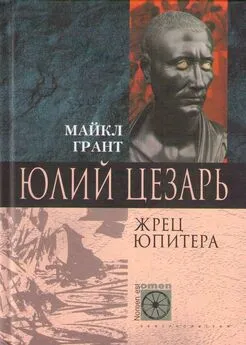

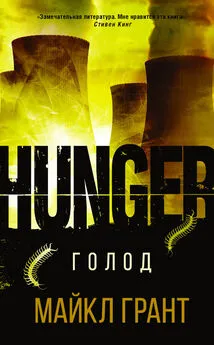
![Ангелос Ханиотис - Эпоха завоеваний [Греческий мир от Александра до Адриана, 336 г. до н.э. — 138 г. н.э.]](/books/1068417/angelos-haniotis-epoha-zavoevanij-grecheskij-mir-o.webp)
![Майкл Грант - Голод [litres]](/books/1078604/majkl-grant-golod-litres.webp)
