Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]
- Название:История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Новое литературное обозрение»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны] краткое содержание
Второй том посвящен периоду от Великой французской революции до начала Первой мировой войны: «долгому XIX веку», который принес многочисленные новшества, кардинально изменившие восприятие тела. Медицинские открытия и достижения искусства, зарождающаяся сексология и стремительное развитие спорта, технический прогресс и нравственные размышления об удовольствии и боли — во всех областях отношение к телу серьезно меняется. Это предвещает еще более глубокие перемены, которые произойдут в XX веке.
История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ РАЗЛИЧНЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ТЕЛО
Каковы были знания медиков о теле, его анатомии и физиологии? Как эти знания сформировались и менялись ли они на протяжении XIX века? Что представляло собой тело в глазах служителей церкви и ревностных христиан? Какая система норм сложилась из этих религиозных убеждений? Как смотрели на тело художники? Какие наваждения, призрачные образы и даже тревоги управляли этими взглядами, в то время как возникали стереотипы социального сознания, нашедшие выражение в создании целого ряда подвидов тела? Все это вопросы, ответы на которые определяют разговор об истории тела в XIX веке. Поэтому стоит затронуть их в самом начале, прежде чем перейти к истории удовольствий и боли.
ГЛАВА I С точки зрения медицины
Оливье Фор
В наши дни разговор о теле и его функционировании невозможно представить без медицинской лексики. Для нас «естественно», что тело есть совокупность органов — очагов физиологических и биохимических процессов. Хотя инвентарь известных нам названий гораздо уже существующего в науке, мы определяем тип и месторасположение болезни с помощью медицинской терминологии.
Такое заимствование не проходит бесследно для наших физических ощущений и представлений о теле. Используемый нами научный лексикон позволяет превратить тело во внешний объект изучения, а значит, дистанцироваться от него и избежать тревоги, вселяемой его состоянием. Не вызывает сомнения и то, что подобный подход обусловливает особенности нашего отношения к больному телу: мы прислушиваемся в большей степени к тем недугам, которые изучены и известны докторам. При этом было бы преувеличением считать, что наше «прочтение» тела полностью совпадает с медицинским. Самодиагностика во многих случаях не имеет ничего общего с современной наукой, которая (как во франции, так и в соседней Великобритании) не воспринимает всерьез пресловутый «печеночный криз» [5] Печеночный криз (фр. crise de foie) — употребляемый среди населения термин для обозначения дурного самочувствия (в частности, головной боли, боли в животе, тошноты), причины которого с печенью никак не связаны. Термин не является медицинским и не основывается на научных данных. ( Здесь и далее, если не указано иное, постраничные примечания принадлежат переводчику. )
. Да и собственно болезнь не интерпретируется и не воспринимается как явление чисто физиологическое. О смерти от онкологического заболевания до сих пор говорят как о результате «мучительной болезни». Когда же речь заходит о ее причинах, то такие факторы, как наследственность, образ жизни, пренебрежение здоровьем, просто злой рок, упоминаются на–много чаще, чем биологические механизмы. Можно было бы предположить, что эти представления — пережиток иррациональных верований, дошедших до нас из глубины веков, или знак сопротивления медицине, которую принято считать слишком технологичной и потому обезличенной. В действительности же они связаны с тем, что последние два столетия медицина представляет тело как организм, зависящий от окружения и поведения его владельца. Так что современная медицина вовсе не сводит тело к перечню органов, клеток и механизмов, управляемых психохимическими законами. Утверждение, согласно которому западноевропейская медицина последние двести лет якобы избавляется от автономной и целостной личности больного, «препарируя» тела и болезни, — безусловное преувеличение. Если медицинский подход и стал господствующим в наших размышлениях о теле и физических ощущениях, то, возможно, потому, что он устроен сложнее, чем об этом судили изобличительные тексты.
Возникновение и распространение этого подхода в обществе связаны с поворотным моментом в истории науки. Доктора, разумеется, имели представление о теле и до появления клинической медицины, но предпочитали держаться от него на расстоянии. Симптомы, то есть сведения, предоставляемые телом, не были для них единственным ориентиром. Начиная с 1750‑х годов, напротив, наблюдение, как в медицине, так и в других науках, становится основным методом исследования. Речь идет в первую очередь о наблюдении над телом. Общее представление о глубокой связи тела с его окружением вовсе не исчезло, но — благодаря фотографиям, более точным и запечатлевающим отдельные части тела, — оно обогатилось новым, которое отныне воспринимается как совокупность органов, тканей, клеток. В конце XIX века медики еще не выделяют молекул, но тенденцию к «дроблению» тела уже можно считать прочно укоренившейся. Впоследствии к статическим изображениям добавляются фильмы, призванные показать, как функционирует тело. В то же время начинает пристально изучаться и все, чем тело окружено. Такой подход тоже нельзя назвать абсолютно новым: в своем сочинении «О воздухах, водах и местностях» на том же настаивал Гиппократ, чьи тексты вновь получили большую популярность. Два упомянутых подхода — глобальный, основанный на изучении окружения тела, и локальный, физиологический — не вступали в борьбу и являлись тогда столпами медицины, хотя второй подход, более технологичный и революционный, завоевал больший успех и оказал более сильное воздействие на умы, чем первый.
Эта книга не ставит цели предложить исчерпывающий обзор знаний и представлений о теле в XIX веке или проследить их эволюцию. Для этого мы отсылаем читателя к опубликованным в последнее время работам (в том числе обобщающего характера) по истории науки [6] В числе последних обобщающих работ отметим: Histoire de la pensée médicale en Occident / dir. par M. D. Grmek. 4 vol. Paris: Éd. du Seuil, 1995–1999. Об интересующей нас эпохе: T. II. De la Renaissance aux Lumières. 1997; T. III, 1999.
. Мы не стремимся и к тому, чтобы еще раз описать постепенное и относительное приобретение медициной власти и монополии [7] На французском материале эта проблема изучена в работах Жака Леонара, в первую очередь см.: Léonard J. La Médecine entre les savoirs et les pouvoirs. Paris: Aubier, 1981.
. Мы задаемся вопросом образования и распространения телесных практик и кодов восприятия тела. С одной стороны, все, что сказано в этом томе о теле и всех его особенностях, во многом продиктовано медициной. Тело человека увечного, больного, мучимого или уже мертвого подвергалось процедурам, выработанным медициной или с ее помощью, и описывалось тоже докторами. Писатели и художники даже с самым богатым воображением изучали анатомию, посещали анатомический театр, читали работы докторов или обращались к ним за советами. Более того, можно предположить, что, читая научные работы и часто посещая врачей, люди из самых разных социальных слоев испытали на себе влияние этих новых кодов. С другой стороны, было бы преувеличением и ошибкой считать, что научное видение тела получает господствующий статус стихийно, впечатляя одним только своим примером. Медицина становится основным ориентиром в вопросах болезней и телесных практик потому, что она развивается в обществе как ответ на его чаяния и вопросы, а не внутри эфемерной научной среды.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)





![Невилл Форбс - История Балкан [Болгария, Сербия, Греция, Румыния, Турция от становления государства до Первой мировой войны] [litres]](/books/1061149/nevill-forbs-istoriya-balkan-bolgariya-serbiya-gre.webp)
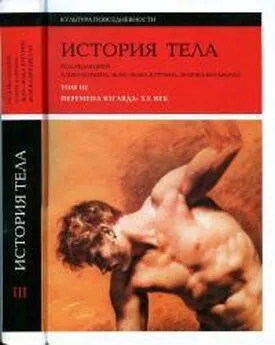
![Жорж Вигарелло - История тела Том 1 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/1081515/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-1-ot-renessansa-d.webp)
![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/1081966/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik.webp)
