Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]
- Название:История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Новое литературное обозрение»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны] краткое содержание
Второй том посвящен периоду от Великой французской революции до начала Первой мировой войны: «долгому XIX веку», который принес многочисленные новшества, кардинально изменившие восприятие тела. Медицинские открытия и достижения искусства, зарождающаяся сексология и стремительное развитие спорта, технический прогресс и нравственные размышления об удовольствии и боли — во всех областях отношение к телу серьезно меняется. Это предвещает еще более глубокие перемены, которые произойдут в XX веке.
История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Великая французская революция и в частности кодифицирующий многие ее завоевания закон вантоза [16] Вантоз (фр. ventôse) — шестой месяц французского республиканского календаря (19/20 февраля — 20/21 марта).
11 года не открыли, как это считалось долгое время, клиническую медицину, но именно тогда она стала обязательной частью медицинского образования и экзаменов для претендентов на получение степени. Три имеющихся в стране медицинских факультета доверяют преподавателям, которые ведут клиническую практику, новые курсы. В городах, где медицинские учебные заведения отсутствуют, обучают будущих врачей непосредственно в самих больницах. С развитием престижа практики пост ассистента хирурга, находившийся в самом низу карьерной лестницы, становится востребованным, приобретает новое название — интерн — и служит основой для блестящей карьеры. Работа интерна, позволяющая регулярно находиться в больнице и накапливать ни с чем не сравнимый опыт, оказывается настолько в цене, что для ее получения кандидаты проходят строгий отбор [17] Ordre et désordre à l’hôpital: l’internat en médecine (1902–2002). Paris: Musée de l’Assistance publique, 2002.
. «Парижская школа», как ее иногда именуют, рассматривается в первой половине XIX века как образец медицинского образования для всей Европы [18] Ackerknecht E. La Médecine hospitalière à Paris (1794–1848). Paris: Payot, 1986 (амер. изд. 1967).
.
Развитие научной мысли и создание специализированных учебных заведений обеспечили методу наблюдения выгодное положение в медицине и дали начало безграничной области знаний, призванной все точнее и глубже изучать и познавать человеческое тело.
2. Исследование тела
Роль медицинского наблюдения отходит на второй план по сравнению с ролью, отводимой окружению человека, и актуальна в основном в стенах больницы, где врачи исследует тело — живое или мертвое. В самом деле, госпиталь предоставляет врачу немало объектов для изучения. Двери больницы открыты лишь для неимущих, заключающих с ней негласный контракт, согласно которому «несчастный, пришедший за помощью, отдает свое тело в жертву науке и тем самым „платит” за медицинские услуги». Такой «контракт» действует и в отношении трупов: если их не забирают, то они отдаются в распоряжение врачей. Доктора же могут, «когда болезнь оказалась сильнее их мастерства… добраться до нее в разрушенном ею органе и раскрыть ее секреты в человеческом нутре» [19] Imbert F. De l’observation dans Les grands hôpitaux et spécialement dans ceux de Lyon. Lyon: Perrin, 1830. Pp. 5–9.
. Так в больницах происходит слияние двух уже существующих, но доселе не связанных принципов. Связь, установленная между наблюдением за симптомами и вскрытием, образует клинико–анатомическую медицину. Практики вскрытия, поначалу не связанные с клиническим наблюдением (и ограничивающиеся обнаружением очага болезни), а впоследствии подчиненные ему (и служащие лишь для подтверждения поставленного диагноза), приумножаются и позволяют уточнить характер болезни, дать ей определение, обнаружить ее скрытые эффекты и понять ее функционирование. Иными словами, мертвое тело становится не менее важным для медицины, чем тело живое.
Тем не менее любой врач, исповедующий эту практику, не может перед лицом своих клиентов и необходимостью незамедлительных действий ждать смерти больного, чтобы разгадать его болезнь, поставить диагноз и определить лечение. Поэтому медики ищут способ «обнаружить человеческое нутро, проделать что–то вроде вскрытия без препарирования» [20] Ségal A. Les moyens d’exploration du corps // Histoire de la pensée médicale en Occident. T. III. Pp. 187–196. Следующим параграфом мы во многом обязаны этой статье.
. Конечно же, несмотря на некоторый спад активности в классический период, существовали вагинальные и ректальные исследования, а использование зондов и свечей практиковалось еще с Античности. Обновление внутреннего обследования начинается с более систематического использования вагинального зеркала–расширителя, инструмента, усовершенствованного в 1812–1835 годах Антельмом Рекамье. Вслед за этим появляются призванные исследовать другие полости человеческого тела инструменты: цистоскоп для наблюдения за мочевым пузырем, отоскоп для ушного прохода. Свет начинает использоваться для изучения глаз благодаря офтальмоскопу Германа фон Гельмгольца (1851) и мочевого канала благодаря первым уретроскопам (1853), к которым их создатель Антонен Жан Дезормо добавляет насадку, чтобы исследовать пищеварительный тракт. Однако подобные инструменты, кроме первого, применяются ограниченно, а то и вовсе существуют лишь номинально: настолько развитие техники оторвано от практики.
С другой стороны, история стетоскопа, успех перкуссии, а позже — триумф рентгеновских лучей свидетельствуют о вторичной роли развития техники. Так, например, предложенная в 1761 году австрийским медиком Леопольдом Ауэнбруггером перкуссия поражает своей простотой. Легенда гласит, что гений ее изобретателя заключался лишь в перенесении на человеческое тело метода, который виноделы использовали для оценки содержимого бочек. Он заключался в том, чтобы постучать по древесине и прислушаться к издаваемому звуку. Этот простой прием не сразу получил распространение, так как современная медицина была неспособна интерпретировать и использовать его результаты. Забытый при жизни Ауэнбруггера, он набирает силу только сорок пять лет спустя, во время расцвета клинико–анатомической медицины [21] Pcitzman S. J., Maulitz R. C. // Histoire de la pensée médicale en Occident. T. III. Pp. 169–186.
: его вновь вводит Корвизар [22] Жан–Николя Корвизар (1755–1821) — личный врач Наполеона I, самый именитый клиницист Первой французской империи.
.
История стетоскопа еще более курьезна, но и показательна [23] Duffin J. To See with a Better Eye: a Life of R.T. H. Laennec. Princeton: Princeton University Press, 1998.
. Ученик Корвизара Рене Теофиль Лаэннек ищет способ усовершенствовать аускультацию. В этом случае речь идет вновь об очень простой системе усиления звука, подсказанной, как говорят, детской игрой. С помощью простой бумажной трубочки, а впоследствии с помощью специально изготовляемых ремесленниками деревянных цилиндров Лаэннеку удается лучше расслышать звуки, исходящие из легочной полости, причем таким образом врачу проще быть деликатным и не посягать на целомудрие пациенток. Прибор и сама методика стремительно приобретают успех, так как отвечают ожиданиям многих врачей. Уже в 1823 году в Соединенных Штатах публикуется переведенный на английский язык «Трактат о непрямой аускультации и болезнях легких и сердца» Лаэннека (1819), а в 1827 году стетоскопы завозятся в Канаду.
Судьба термометра совершенно иная. Изобретен он был давно, особых проблем в использовании не вызывал, но среди медицинских измерительных инструментов появился сравнительно поздно. Его использование в современном нам виде предполагает соответствие ряда чисел определенным значениям: подобная операция становится возможной в 1820‑е годы, только после внедрения в медицину цифрового (статистического) метода доктором Пьером Луи [24] Bourdelais P. Définir l’efficacité d’une thérapeutique: l’innovation de l’école de Louis et sa réception // Faure O. (dir.). Les Thérapeutiques: savoirs et usages. Lyon: Fondation Mérieux, 1999. Pp. 107–122.
. Более того, для распространения измерения температуры потребовалось, чтобы жар стал восприниматься как симптом и перестал считаться болезнью. Это изменение произошло лишь в результате долгой наблюдательной практики в больнице. Поэтому не стоит удивляться, что систематически мерить температуру начали только в 1840‑е годы в учреждениях доктора Карла Вундерлиха [25] Ségal A. Op. cit.
.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Жорж Вигарелло - История тела Том 2 [От Великой французской революции до Первой мировой войны]](/books/1081096/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-2-ot-velikoj-fran.webp)





![Невилл Форбс - История Балкан [Болгария, Сербия, Греция, Румыния, Турция от становления государства до Первой мировой войны] [litres]](/books/1061149/nevill-forbs-istoriya-balkan-bolgariya-serbiya-gre.webp)
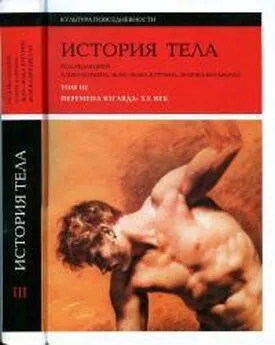
![Жорж Вигарелло - История тела Том 1 [От Ренессанса до эпохи Просвещения]](/books/1081515/zhorzh-vigarello-istoriya-tela-tom-1-ot-renessansa-d.webp)
![Мишель Перро - История частной жизни Том 4 [От Великой французской революции до I Мировой войны]](/books/1081966/mishel-perro-istoriya-chastnoj-zhizni-tom-4-ot-velik.webp)
