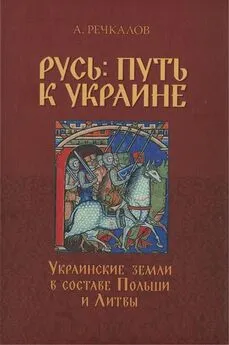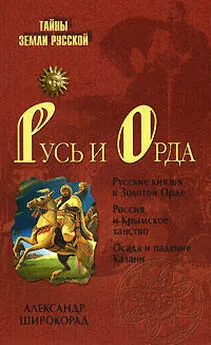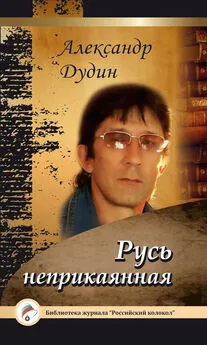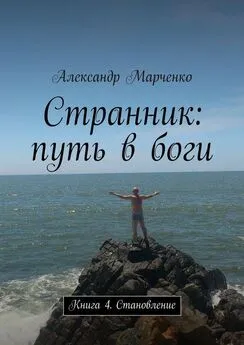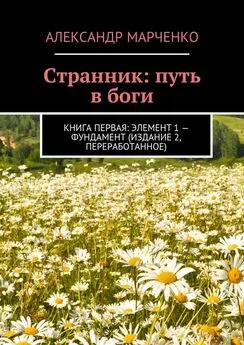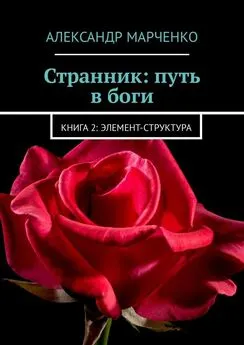Александр Речкалов - Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы. Книга 1
- Название:Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы. Книга 1
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга; ФОП Стебеляк О.М.
- Год:2014
- Город:Киев
- ISBN:978-966-8314-61-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Речкалов - Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы. Книга 1 краткое содержание
В свойственной ему убедительной манере автор показывает, что эпоха пребывания украинских земель в составе Польши и Литвы является такой же неотъемлемой частью отечественной истории, как и аналогичный по продолжительности период вхождения Украины в состав Российской империи и Советского Союза. Книга адресована всем, кто неравнодушен к историческому прошлому украинского народа.
Русь: путь к Украине. Украинские земли в составе Польши и Литвы. Книга 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По мнению Яковенко, отличительной особенностью перемен, последовавших за реформой 1430-х гг., являлось то, что русины не ставили перед собой цели, отдельные от целей их земляков других национальностей. Объяснялось это тем, что из бояр-господ, которые потрясали когда-то Галицко-Волынским государством, мало кто остался. Одни вымерли, другие, активно участвовавшие в войнах с польским и венгерским королем, эмигрировали после поражения на Волынь и, подобно Ивашке Преслужичу, примкнули к сторонникам князя Свидригайло, третьи влились в среду польской знати и «с руки короля» заняли важные административные посты в Червоной Руси и Подолье.
В Литовском же государстве после столь бурных событий наступает затишье настолько глубокое, что источники даже не указывают, где находился до 1440 г. великий литовский князь Сигизмунд. Несомненным является только то, что он продолжал править страной и придерживался своего прежнего курса на ограничение польского влияния. К этим же годам относится последнее сообщение о светском периоде жизни князя Федора Острожского. Как пишет митрополит Иларион, «…года 1438-го князь Федор потерпел большую неудачу. Нужно было выгнать татар, и выгнать так, чтобы они больше не нападали на Украину. Князь Федор собрал большое войско, собрал к себе много украинской шляхетской молодежи. Бой был страшный, множество татарвы полегло, но «полег и весь цвет украинского шляхетства»… Эта неудача сильно повлияла на чувствительного князя, и он постановил покинуть этот неверный мир. Да и много он наработался, обороняя Украину и Веру Православную от наскоков католической Польши и Рима. Наверное были еще какие-то причины духового переворота кн. Федора, но мы их не знаем… Где-то в году 1438-м князь Федор Острожский скинул свое воинское облачение, и приняв монашество в Киево-Печерской Лавре стал смиренным монахом Феодосием». Так соединяются две версии жизни Федора Острожского в период между 1432 и 1438 гг. и обе они приводят нашего героя в Киево-Печерский монастырь, где князь Федор навсегда отрешился от мирской славы и суеты.
Прекращение многолетней внутренней борьбы в Великом княжестве Литовском обусловило изменения в политическом курсе князя Сигизмунда. В польской поддержке он больше не нуждался. Как отмечает О. Русина, подтверждая чуть ли не каждый год акт польско-литовской унии 1432 г., он стал считать обременительной эту унизительную зависимость — и из его уст зазвучали слова, якобы заимствованные из лексикона его старшего брата: «Некогда мы не были ничьими подданными, и великое княжество наше, насколько хватает памяти человеческой, никогда никому не было подвластно; мы не получили его от поляков, а занимаем княжеский престол по Богом данному наследственному праву после наших предшественников. После смерти нашего брата, вечной памяти Витовта, оно перешло к нам как к законному наследнику, и мы на этом престоле, с Божьей помощью, никого, кроме Бога, не боимся».
Более того, пишет Русина, Сигизмунд не ограничивался громкими заявлениями. В конце 1430-х гг. по его инициативе появился проект создания антипольской лиги, к которой он стремился привлечь германского императора, немецких рыцарей и татар. Однако для реализации подобных далеко идущих замыслов, мало было иметь такие же как у старшего брата амбиции — нужно было еще обладать и политическим талантом великого Витовта. Отпор польскому гегемонизму имел шансы на успех только при сплочении вокруг трона всех политических сил страны, однако Сигизмунд такой опорой как раз и не обладал. После победного завершения внутрилитовской войны великий князь, стремясь расширить круг преданных лично ему людей, стал возвышать рядовых землевладельцев и давать дворянство зажиточным крестьянам. От власти отстранялись многие влиятельные лица, такие как смоленский наместник Иоанн Гаштольд, что вызывало резкое недовольство литовской знати. Положение еще больше усугублялось параноей, симптомы которой, по сведениям Э. Гудавичюса, «все более проглядывали в поведении великого князя», продолжавшего прибегать к жестоким расправам над своими подданными. Не случайно новгородский летописец писал о Сигизмунде: «Сей бе князь лют и немилостив… и много князей литовских погубил, а иные истопил, а иные погубил мечем, а панов и земских людей немало без милосердия изгубил».
В стране стали множиться слухи о готовящейся Сигизмундом расправе над большинством влиятельных панов, которые и без того, по словам Хроники Быховца, «…терпели як верные рабы пана своего и ничего злого ему не чинили и не мыслили; он же, окаянник, князь великий Жигимонт, не насытился злостью своей и мыслил в сердце своем по диаволью научению, как бы весь рожай шляхецкий погубите и кровь их розлити, а поднести рожай хлопский, песью кров». По мнению Н. Яковенко, вряд ли «анти-шляхетский радикализм» Сигизмунда заходил так далеко и предусматривал «весь рожай (род — А. Р.) шляхецкий» погубить, но несомненным является то, что князь окружил себя не старой знатью, а «новыми людьми». В такой ситуации полякам даже не пришлось предпринимать каких-либо мер для смещения своевольного правителя, как это было с князем Свидригайло — подданные великого литовского князя сами составили и реализовали заговор против своего немилосердного государя.
Основными участниками заговора стали тайные сторонники князя Свидригайло: князь Александр (у некоторых авторов Ян) Чорторыйский, виленский воевода Иоанн Довгирд и тракайский воевода Петр Лель. К заговору привлекли также «дворянина, родом киянина, на имя Скобейка». По сведениям М. Стрыйковского Скобейка был конюшим великого князя, что помогло заговорщикам в реализации их намерений. Некоторые источники относят к участникам заговора также и брата Александра Чорторыйского — Ивана, которого Я. Длугош именует «русином родом и верой». В связи с этим Русина обращает внимание на то, что братья Чорторыйские были внуками князя Константина Ольгердовича, и это обстоятельство хорошо иллюстрирует, насколько далеко зашел процесс «укоренения» литовской династии Гедиминовичей менее чем через сто лет после ее появления на землях Руси.
Характеризуя позиции других политических сил Великого княжества накануне покушения на князя Сигизмунда, Гудавичюс отмечает, что «…большая часть литовских панов знала, или догадывалась о зреющем заговоре, однако выбрала роль пассивного наблюдателя». По мнению данного автора, литовская знать не любила и побаивалась поляков, но еще больше не любила русинов и опасалась гнева Сигизмунда. Этими обстоятельствами и была продиктована ее выжидательная позиция: позволяя заговорщикам реализовать свои замыслы и, в случае неудачи, сложить свои головы на плахе, литовская аристократия отнюдь не собиралась в случае успеха покушения уступить его участникам право определять дальнейшую судьбу страны. Сами же заговорщики наивно надеялись на то, что после убийства Сигизмунда Великое княжество Литовское вновь возглавит князь Свидригайло.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: