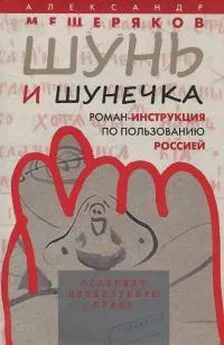Александр Мещеряков - Модернизация японского тела: от патернализации к национализации
- Название:Модернизация японского тела: от патернализации к национализации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2011
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мещеряков - Модернизация японского тела: от патернализации к национализации краткое содержание
Модернизация японского тела: от патернализации к национализации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Показательно, что государство предполагало контролировать физическую силу и здоровье прежде всего той части населения, которая могла (должна) быть мобилизована для решения военных и производственных задач. Особое внимание следовало обращать на молодых людей в возрасте от 17-ти до 19 лет, то есть того контингента, которому в скором времени предстоит нести воинскую службу (призывной возраст составлял именно 20 лет), трудиться и размножаться на благо страны. Еще раз подчеркнем: “заботу” о молодежи следует интерпретировать не столько как заботу, сколько как попытку поставить ее под контроль. Ведь то же самое государство без тени сомнения отправляло эту молодежь на фронт, то есть на смерть. До этого времени ей следовало активнее заниматься физкультурой и выполнять нормы, аналогичные советскому комплексу ГТО.
Заявления чиновников Министерства благосостояния и здоровья, сделанные во время обсуждения закона о физической силе, дышат неподдельной гордостью за всемогущество государства, которое осуществляет контроль над подданными не только на социальном, но и на телесном уровне. Замалчивая “достижения” нацистов по “очищению” немецкого народа, мощную систему по охране здоровья и развитию физкультуры и спорта в Советском Союзе, они не обинуясь утверждали, что создаваемая ими система контроля является “уникальным” японским достижением, целью которого является увеличение физической силы японца и улучшение его здоровья [9] Фудзино Ю. Указ. соч . С. 321.
.
25 января 1941 года кабинет министров утвердил грандиозную двадцатилетнюю программу по увеличению популяции этнических японцев. В преамбуле программы подчеркивалось, что увеличение населения необходимо для успешного строительства “сферы совместного процветания в Восточной Азии” под эгидой Японии. Будучи союзником нацистской Германии, Япония пристально следила за ее “достижениями”, в том числе и за эффективной демографической политикой, приведшей к появлению большого количества молодых и здоровых людей, что, как считалось, позволило ей одерживать легкие победы над “старыми” европейскими нациями.
Согласно программе, к 1960 году этнических японцев должно было стать 100 миллионов (на момент принятия программы население империи составляло именно 100 миллионов человек, но из них 25 миллионов были “инородцами”, в основном, корейцами и китайцами). Была развернута активная пропагандистская работа по снижению брачного возраста (на момент принятия программы он составлял 24 года у женщин и 28 лет у мужчин), сосредоточению женщин не на производственной, а на репродуктивной функции, увеличению количества детей (не меньше пяти на семью; реально этот показатель составлял 4,15). Японцев призывали отказаться от “роскошных” свадебных церемоний, расширялась сеть государственных семейных консультаций, предлагалась разработка конкретных мер по оказанию материальной помощи многодетным семьям, искоренению венерических заболеваний, туберкулеза, улучшению жилищных условий и питания. Поскольку в городах рождаемость падала особенно заметно, то ставилась задача, чтобы в деревне проживало не менее 40 % населения. Предлагалось расширить сеть дошкольных учреждений, платить пособия молодым семьям. Хотя это была программа по увеличению численности всего населения, из предлагаемых мер видно, что нацелены они были в первую очередь на увеличение рождаемости и сокращение детской смертности, то есть фактически интересы вышедшей из фертильного возраста части населения находились на втором плане.
Но все эти усилия не принесли чаемого результата. Военные, которые в то время определяли политический курс государства, хотели иметь больше будущих призывников и отправляли умирать нынешних. Все больше юношей и мужчин уходили в армию, все больше девушек и женщин оставались без брачных партнеров, развернувшаяся в стране пропаганда вступления в брак с инвалидами войны имела ограниченный успех. Отправленным на побывку домой солдатам командиры настоятельно советовали успеть за время отпуска вступить в брак, но получалось это далеко не у всех.
Все больше женщин занимали место мужчин на производстве. Обязанности по уходу за уже имевшимися детьми тоже никто не отменял — а количество яслей и детских садов было явно недостаточным. Японки оказались в трудном положении — им предлагалось больше рожать и больше работать.
Военные нужды диктовали потребность в развитии промышленности, военное время характеризуется дальнейшей индустриализацией, так что в 1944 году развернулась пропаганда, призывавшая женщин относиться к работе не как к временному занятию, целью которого является пополнение семейного бюджета, а как к “служению империи”. В том же самом 1944-м, когда японцы все еще надеялись достичь перелома в ходе войны, всерьез обсуждалось развертывание кампании под лозунгом “Ради победы на производственном фронте откажемся от заключения браков в этом году!”. Программа по повышению рождаемости перерастала в свою противоположность.
В результате, непосредственно после принятия программы уровень рождаемости несколько повысился, но затем тяготы войны сыграли свою роль, рождаемость резко упала, а смертность так же резко возросла (во время войны погибли около трех миллионов японцев). К этому времени государство окончательно национализировало тело японца и поступало с ним по своему произволу. К концу мировой войны в армию были мобилизованы около 7 миллионов трудоспособных мужчин, что вызвало нехватку рабочих рук. 7 миллионов — это чуть меньше одной десятой населения тогдашней Японии. В процентном отношении это значительно превышает долю самураев в токугавской Японии с доминированием в ней воинского сословия (приблизительно 1,3 %).
Невозможность решить реальные проблемы приводила ко все более частому отрицанию всего материального. С самых разных сторон раздавались утверждения, что достоинства японца состоят прежде всего в его духе, жертвенности, готовности к смерти. Предназначение человека состоит в том, чтобы отдаться служению и жертвовать своими эгоистическими интересами ради родины, государства, императора. Этот “жертвенный дискурс” был настолько внедрен в сознание, что распространялся даже на животных и растения. Некий молодой человек написал письмо в газету с вопросом: как следует вести себя, если ему по нравственным причинам претит есть рыбу и птицу? Газета отвечала: поскольку даже растения обладают душой, то, если быть последовательным, автору письма следует отказаться от любой пищи и умереть. Однако предназначением всего сущего в этом мире является принесение себя в жертву, а потому и животные, и растения, и человек должны неукоснительно следовать этому принципу [10] Тайсё дзидай-но ми-но уэ содан [ Газетные консультации в газетах периода Тайсё ]. Токио: Тикума сёбо, 2003. С. 72.
. В военной практике это приводило к осознанию желательности добровольно-обязательной смерти. Летчики-камикадзе являются наиболее концентрированным выражением такого отношения к жизни.
Интервал:
Закладка: