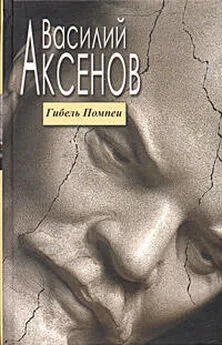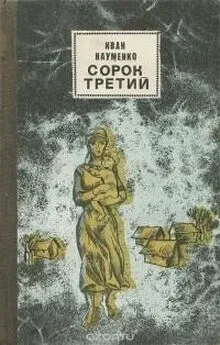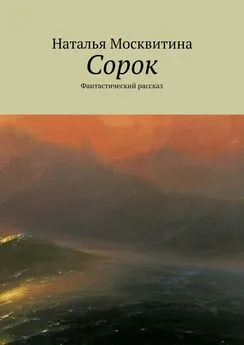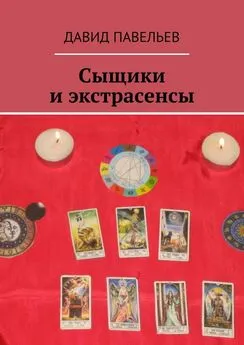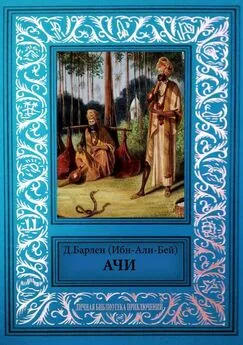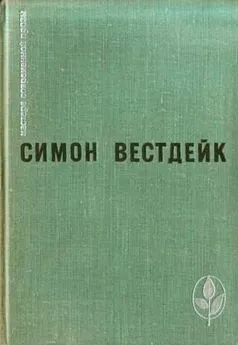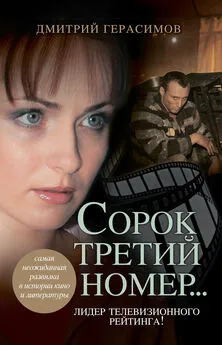Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Название:Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат.
- Год:1991
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника. краткое содержание
/i/46/671646/Cover.jpg
Сорок третий. Рассказ-хроника. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В феврале этого года после освобождения Краснодара наши спецкоры Борис Галин и Павел Милованов, как указывалось, прислали корреспонденцию о немецких душегубках. Это был первый сигнал, не верилось, что такое возможно. Мы даже материал не напечатали, отложили и, когда Толстой выехал в Краснодар, передали ему. Алексей Николаевич и рассказывает об этих душегубках, в которых гитлеровцы умертвили сотни ни в чем не повинных людей.
Статью Толстого и ныне без содрогания нельзя читать. Между прочим, читая ее, я спросил Толстого: «Какой же это дурман? Это злодеяния, которым названия нет». Писатель ответил: «Согласен. А коричневый дурман не о фашистских злодеях и убийцах. Дочитайте — все будет ясно». Имел он в виду концовку статьи:
«Каким раскаянием и какими делами немцы смогут смыть с себя пятно позора? Пятно позора — это нацизм. Немецкий народ не плюнул в глаза своему соблазнителю и пошел за Гитлером убивать и грабить. Горе тем немцам, кто теперь же, не откладывая на завтра, не очнется от коричневого дурмана».
И еще об одном эпизоде, связанном с поездкой Толстого в Краснодар. Алексей Николаевич все время просился на фронт, а я его не пускал. У меня был прямой запрет ЦК партии: приказано было беречь Алексея Николаевича, не давать ему командировок в действующую армию. Я строго выдерживал указание, хотя и было нелегко. Но все же был уверен, что и он его не нарушал. Спустя тридцать лет после войны, знакомясь с архивом Толстого, я обнаружил письмо Ильи Сельвинского, из которого узнал, что писатель с приказом не посчитался. Вот это письмо Сельвинского со штампом полевой почты на конверте:
«Дорогой Алексей Николаевич! Был я на днях у товарища Г., к которому вы заезжали как-то с Тюляевым. Этот товарищ рассказал мне о том, как Вы просили его показать Вам игру на некой шарманке и угостил Вас, приказывая «играть» целому полку.
Цель обстрела он выбрал не дальнюю, а ближнюю, по которой шарманки никогда не работают.
Проиграли, стало быть, и дело с концом. Вы уехали. Дела пошли прежним чередом.
Но тут надвигается самое интересное. Когда начали брать пленных, оказалось, что игра имела последствия: в то время когда Вы сидели у товарища Г., на передовой у немцев прохаживался какой-то генерал, приехавший с инспекционными задачами. И вот этого-то генерала шарманки и укокошили. Это, несомненно, Ваша, Алексей Николаевич, заслуга! Ведь если бы Вы не захотели повидать тот беглый залп, который Вы видели, то Г. не выбрал бы ближайшую цель.
И до чего же Вы, оказывается, везучий. Я два года сижу на фронте, как пришитый, — и ни одного генерала не убил…»
Замечу, что Тюляев — это председатель Краснодарского крайисполкома, а «товарищ Г.» — командующий армией Гречко А. А. Что же касается «шарманки», то каждому, даже самому непосвященному в военные тайны человеку ясно, что это — наши «катюши»…
16 июля.Сегодня наконец появилось сообщение о начавшемся четыре дня назад наступлении наших войск севернее и восточнее Орла. Каждый день теперь — сводка о продвижении по фронту и в глубину, освобождении десятков населенных пунктов. Перешел в наступление и Центральный фронт, хотя, как и Брянский и Западный, он не называется. Просто к направлениям «севернее Орла» и «восточнее Орла» прибавились слова: «южнее Орла». Наступление трех мощных фронтов, как это теперь понятно каждому, имеет своей целью разгромить орловскую группировку врага. Яснее ясного также, что вот-вот немцы будут вышиблены из Орла.
Есть перемены и на других направлениях. На орловско-курском участке противник не только остановлен, но и отброшен за ту линию, которую занимал до 5 июля. 10–35 километров, захваченные им, возвращены. Обескровленный и уже потерявший веру в победу, враг на белгородском направлении не только прекратил атаки, но и отводит свои тылы. Скоро и на этих направлениях начнется наступление советских войск под условным названием «Кутузов».
Со всех этих фронтов поступают репортажи и корреспонденции спецкоров, как говорится, только успевай печатать. Но, увы, не все материалы размещаются на полосах газеты. Они заняты отчетом о судебном процессе по делу о зверствах немецко-фашистских захватчиков и их пособников в Краснодарском крае. Тоже важный материал, вызывающий и боль, и ненависть к врагам, зовущий в бой.
В сегодняшнем номере газеты опубликован очерк Александра Авдеенко «Искупление кровью».
Непросто сложилась жизнь писателя. Его имя долгое время было под запретом.
Я знал его еще с конца двадцатых годов, когда редактировал в Донбассе алчевскую городскую газету «Большевистский путь». Саша Авдеенко работал у нас корреспондентом. Живой, неугомонный девятнадцатилетний паренек, боевой и своенравный, он мог вдруг исчезнуть из редакции на два-три дня, а потом оказывалось, что эти дни и ночи Авдеенко провел в шахте «Парижская коммуна», лазил по бесконечным штрекам и лавам. Или в прохудившемся пальтишке в ледяную стужу сутки путешествовал на открытой площадке угольного эшелона и мерзлыми руками делал какие-то записи. Возвращался он так же неожиданно, как исчезал, с добротным материалом подчас на целый разворот газеты или с интересным «дневником кондуктора», и язык у меня не поворачивался поругать его за своеволие. Да мне и самому тогда было двадцать два года…
Потом я уехал в Днепродзержинск, и наши дороги с Сашей разошлись.
Я, конечно, читал роман «Я люблю», который так высоко оценил Максим Горький, но не предполагал, что его автором является Саша Авдеенко из нашей газеты. Мало ли однофамильцев на свете! Читал я и очерки специального корреспондента «Правды» А. Авдеенко, часто публиковавшиеся в этой газете, и тоже не думал, что это мой дружок из алчевской газеты.
И вот в 1935 году, когда я уже работал корреспондентом «Правды» на Украине, приехал в Москву, зашел в редакцию, вижу — с лестницы быстрым шагом спускается молодой человек в распахнутой шубе. Присмотрелся — Саша Авдеенко. Остановил его:
— Ты что здесь делаешь? — спросил я.
— Работаю…
— Так это твои очерки в «Правде»?
— Мои…
— А «Я люблю» ты написал?
— я…
— Ты куда торопишься? — допытываюсь.
— На съезд.
— А эта речь тоже твоя?
— Моя, моя…
Оказалось, что Авдеенко был на Урале избран делегатом Всесоюзного съезда Советов, вчера выступал, и его речь сегодня опубли- кована в «Правде» под заголовком «За что я аплодировал Сталину». А концовка ее была необычной даже для того времени: «Когда у меня родится сын, когда он научится говорить, то первое слово, которое он произнесет, будет «Сталин».
Вот, подумал я, чудеса! Вот каких «высот» достиг наша Саша! Конечно, я был рад за него, своего алчевского дружка. Мы обнялись, похлопали друг друга по плечам…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: