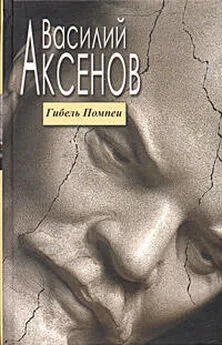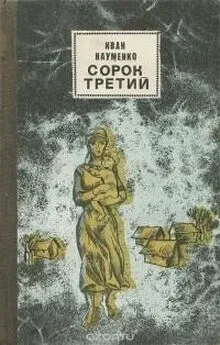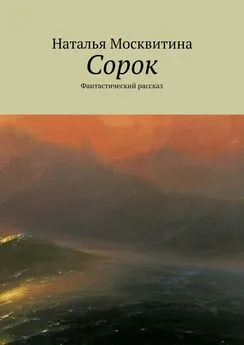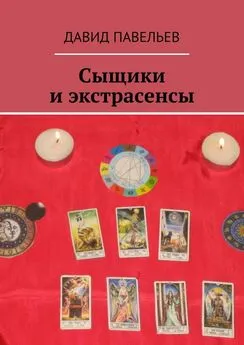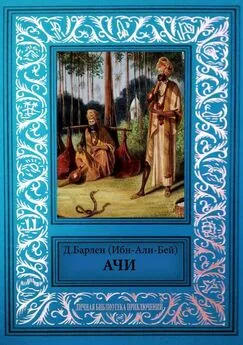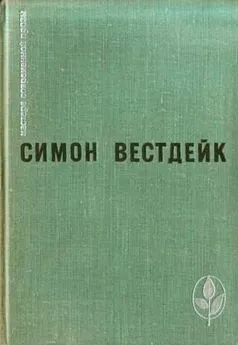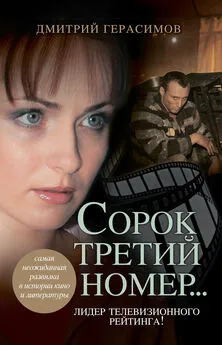Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Название:Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат.
- Год:1991
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника. краткое содержание
/i/46/671646/Cover.jpg
Сорок третий. Рассказ-хроника. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Побывал Василий Семенович и в артиллерийской противотанковой бригаде Никифора Чеволы. Бригада встретила немцев, когда они рвались на белгородском направлении по шоссе Белгород — Курск, с юга на север. Из гроссмановского рассказа об этой героической бригаде и ее командире я приведу один выразительный эпизод:
«Подполковник Чевола держал связь с командованием по радио. Его пушки были в полуокружении. Чевола теперь ясно понял, разгадал до конца, чего хотели немцы. Они стремились пробиться сквозь заслон и «ударить под корень» нашему большому стрелковому соединению. Это предвещало беду десяткам тысяч людей, ставило под угрозу оборону на большом участке фронта. Генерал, командир стрелкового соединения, сказал по радио Чеволе: «В ближайшие часы помочь не могу, разрешаю отойти». И здесь Чевола принял решение, свидетельствующее, по моему мнению, об огромной военно-этической силе, рожденной и развившейся в наших командирах во время войны и сыгравшей важнейшую роль в победоносном исходе июльских боев. Старший начальник, фланг которого прикрывала бригада, позволил Чеволе отойти. Но командир бригады, ясно представляя последствия своего отхода, отвечал: «Не уйдем, останемся умирать». И бригада выстояла. Она отстояла свой рубеж».
Василий Гроссман своими глазами видел поле боя. Видел поверженную технику врага, подбитые, горевшие наши танки и самоходки. Видел наши войска и отступающими, и наступающими. Видел и советских воинов — раненых и погибших. И молчать об этом он считал для себя недостойным. С трудом, но нам все же удалось «пробить» из его очерка в газету такие правдивые строки:
«Бригадир батареи Кацельман был ранен, он умирал в луже черной крови, первое орудие было разбито, прямым попаданием снаряда оторвало руку и голову установщику сержанту Смирнову, старший ефрейтор Мелехин — командир орудия, веселый, подвижный виртуоз истребительной работы, в которой доля секунды решает исход дуэли, лежал тяжело контуженный, темным и мутным взором смотрел на орудие — оно тоже напоминало оборванного, пострадавшего человека, клочья резины свисали с колес, распоротых осколками. Наводчик Тесленко и замковый Калабин были легко ранены, но оставались в строю. Целым был лишь подносчик Давыдов». И все же атаку врага отбили.
Я рассказывал, о чем писал Василий Гроссман в свою газету с разных фронтов войны. А ныне считаю необходимым рассказать, хотя бы кратко, как жил и работал на войне Василий Семенович. Для этого мне придется вернуться назад.
Вспоминаю появление в редакции Гроссмана в сорок первом году. Это было в конце июля. Зашел я в Главное политическое управление, и там мне сказали, что на фронт просится Василий Гроссман. Писателя я знал лишь по его донбассовскому роману «Степан Кольчугин». Я сам работал в тех краях, и все донецкое было мне по сердцу. Я и сказал в Главпуре:
— Василий Гроссман? Сам с ним не встречался, но хорошо знаю по «Степану Кольчугину». Давайте его нам.
— Да, но он в армии не служил. Армию не знает. Подойдет ли для «Красной звезды»?
— Ничего, — убеждал я пуровцев. — Зато он знает человеческие души.
Словом, я не ушел, пока не был подписан приказ наркома о призыве Гроссмана в ряды Красной Армии и откомандировании его в нашу газету. Была, правда, одна заминка. Числился он рядовым, или, как Илья Эренбург любил подшучивать, и не только в отношении Гроссмана, но и себя, «рядовым необученным». Командирское звание присвоить ему нельзя, комиссарское — тоже: он беспартийный. Нацепить знаки, а позже погоны солдата — невозможно, на одно козыряние всем старшим по званию уйдет у него в частях более половины времени. Все, что можно было ему дать — интендантское звание. Правда, такие звания были у некоторых наших писателей — Льва Славина, Бориса Лапина, Захара Хацревина и даже первое время у Константина Симонова. Их зеленые петлицы постоянно доставляли им неприятности. Такого цвета петлицы носили медики и интенданты. Их принимали за медиков и требовали медицинской помощи или же за интендантов и ругали за непорядки в пищеблоках. Позже, когда произошла унификация воинских званий, они надели офицерские погоны.
А пока 28 июля сорок первого года я подписал приказ по редакции: «Интендант 2-го ранга Василий Семенович Гроссман назначается специальным корреспондентом «Красной звезды» с окладом 1200 рублей в месяц». На второй день Гроссман явился в редакцию. Я дал ему прочитать приказ и, признаюсь, не стал спрашивать, согласен ли он с этим назначением; в ту пору такие вопросы не задавались — призван, мобилизован — и все! Но он мне сказал, что хотя назначение это неожиданно, но для него благоприятно.
Через несколько дней полностью экипированный в офицерское обмундироваטие он зашел ко мне и говорит:
— Готов сегодня же выехать на фронт.
Но здесь между нами произошел такой диалог:
— Сегодня? А стрелять вы из этой пушки умеете? — указал я на висевший у него сбоку пистолет.
— Нет.
— А из винтовки?
— Тоже нет.
— Как же я вас отпущу на фронт? А вдруг что случится! Нет уж, пару недель поживите в редакции (весь состав редакции в ту пору был на казарменном положении).
Шефство над Гроссманом взял полковник Иван Хитров, наш тактик и в прошлом строевой командир, возил его в один из тиров Московского гарнизона и там обучал стрелковому делу.
В первые наши встречи Гроссман показался мне совсем неприспособленным к войне. Выглядел он как-то не по-военному. И гимнастерка в морщинах, и очки, сползавшие на кончик носа, и пистолет, болтающийся на незатянутом ремне… Был он обидчив, все воспринимал всерьез и не любил, когда даже дружески потешались над его небравым видом. Перед очередной поездкой на фронт Гроссман заходил ко мне и всегда выглядел немного грустным, меланхоличным, словно уезжал нехотя. Так мне, во всяком случае, казалось, может быть, потому, что другим жаловался, что его снова посылают в самое «гиблое место». Я не относился к этому серьезно, потому что он, возвращаясь, всегда с увлечением рассказывал о том, как было интересно и каких прекрасных людей он повидал. А главное, то, как он писал, вскоре стало свидетельствовать о доскональном знании фронтовой жизни, об ураганном времени, проведенном в «неуютных» местах на передовой.
Шли месяцы войны. Гроссман внешне мало изменился, разве что гимнастерка не так топорщилась да под дождем и снегом «уселась» шинель. И все же это был новый Гроссман, вросший в войну, во все ее будни и тяготы.
Не пришлось Гроссману, как многим другим корреспондентам, стрелять из автомата или пулемета. Но он не раз проявлял командирскую распорядительность. Бывало, то немцы разбомбят какой-нибудь небольшой мостик, то разворотят артобстрелом или бомбежкой дорогу среди болот или торфяников. Образуется пробка. Все спешат, торопятся, пытаются вне очереди объехать ее, доказывают какие-то особые свои права. К узкому месту трассы подходят офицеры разных званий и рангов, разных частей и соединений и начинают судить и рядить, нередко на довольно высоких нотах. Среди них и Гроссман — его «виллис» тоже в пробке. И вскоре он как-то само собой становится неназначенным и неизбранным начальником самодеятельной переправы. Люди даже не знали его по званию — на Гроссмане был дубленый полушубок, но невольно подчинялись негромкому голосу этого человека, его деловым советам (сказывался опыт инженера-шахтера).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: