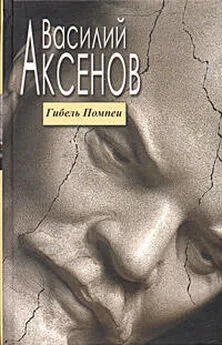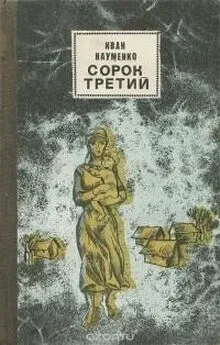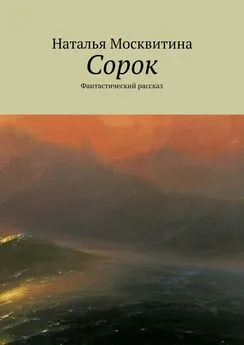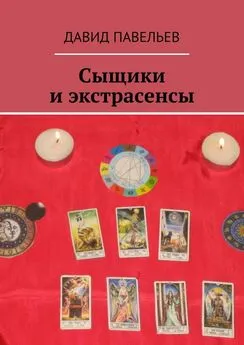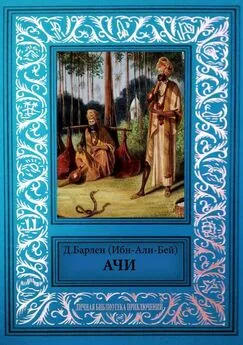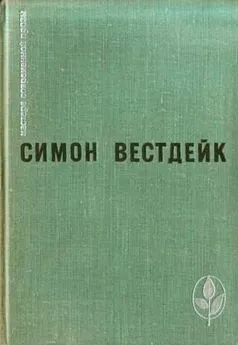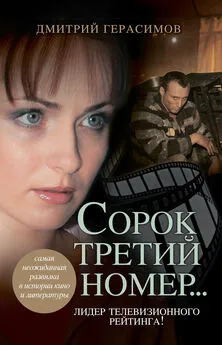Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Название:Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат.
- Год:1991
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника. краткое содержание
/i/46/671646/Cover.jpg
Сорок третий. Рассказ-хроника. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И в эту войну они были достойны своих предков, дедов, отцов. Писатель считает: все, что составляет славную историю кубанского казачества, бледнеет перед эпосом Великой Отечественной войны.
Читая эти строки, я подумал, что, быть может, Павленко слишком углубился в прошлое, и уже было занес карандаш, чтобы несколько смягчить это сравнение. Но понимал писателя. Он был там в эту войну, он все видел своими глазами, все пережил вместе с кубанцами, страдал в дни поражений, радовался победам, все прошло через его сердце, и написал так, как это ему слышалось и виделоеь. Он не просто писал, а, я бы сказал, выпевал эти строки из своей души.
Павленко называет имена героев этих сражений — командиров казачьих корпусов Доватора, Белова, Кириченко. Летом прошлого года в самые тяжелые бои на Кубани в «Красной звезде» прозвучало имя командира артиллерийского дивизиона Чекурды. Его слава, словно на крыльях, неслась по всему фронту. А вот теперь писатель рассказал о другом:
«Немцы заучивают наизусть трудное слово «Чекурда». Когда на них нежданно-негаданно обрушивается губительный огонь русских пушек, они говорят: «Чекурда». Когда в схватку с артиллерийскими полками вступают кочующие батареи и останавливают полки и разносят вдребезги пушки, немцы говорят: «Чекурда», опасаются камышей — нет ли там Чекурды, они боязливо обходят леса — может быть, там Чекурда. Чекурда везде, всюду, всегда…»
Павленко мог бы рассказать сотни героических эпизодов, но выбрал самые выдающиеся — один-два, — и в них, как в фокусе, просвечивается доблесть и мужество кубанских казаков. Вот один из них: в Моздокских степях попал в плен к немецким танкистам Буряченко. Он сдает клинок, сдает оружие, и его сажают на броню вражеского танка — ехать в полон. Немцы довольны — везут казака-кубанца. А он, вынув из-под черкески гранату, бросает ее в люк и, уничтожив экипаж, уходит к своим, раненный собственной гранатой…
Но очерк не только о тех казаках, которые сражались в воинском строю. Он обо всем кубанском народе. Как в малолетнем ребенке живет стремление двигаться, так и Отечественная война, пишет Петр Андреевич, разбудила в кубанском казаке все силы его прошлого, мобилизовала всю мощь сегодняшнего. Есть в очерке и рассказы о партизанской борьбе, о подпольщиках, о сопротивлении казаков в самих станицах. Он мог бы, казалось, закончить свой рассказ этими примерами. Но не смог умолчать еще об одном поколении героев.
На Кубани родилось новое слово — «разминеры». «Разминеры» — это правда, великая и простая, легендарная. Речь идет о ребятах, обезвреживавших немецкие мины, спасавших дома, резавших немецкую связь. Павленко приводит выдержку из официальных документов об освобождении Армавира: «Много зданий спасено ребятами. Ночью они перерезали запальные шнуры и тем спасли дома от взрывов». О том же сообщают из других городов.
Павленко называет имена малолетних героев-казачат, сражавшихся с немцами по своему разумению. Это Женя Петров из Майкопа, тринадцатилетняя Тамара и десятилетняя Валя Огаревы, две сестры из Пантелеймоновской школы… «Так рождается у нас, — пишет Петр Андреевич, — второе поколение победителей, и тысячи ребят могут сказать: раньше чем они научились арифметике, они уже били немцев, были солдатами Отечественной войны…»
«Чувство нового» — так называется большой очерк Бориса Галина. Пожалуй, я не ошибусь, если скажу: из всего напечатанного Галиным за два года войны этот очерк о командире стрелковой дивизии генерале Аршинцеве показывает приобретение «чувства нового» не только нашим командиром, но и самим Галиным.
Читая очерк, я невольно вспоминал ступеньки, по которым взбирался Галин на высоты военной публицистики. А ведь пришел он к нам, не зная армии, военного дела. По болезни он был снят с воинского учета, не блистал и воинской выправкой. Илья Эренбург, увидев как-то на фронте Галина, скептически оглядел его хрупкую фигуру, совсем, казалось, неприспособленную к тяготам фронтовой жизни, и полусерьезно, полушутливо сказал ему:
Хотите, я поговорю с редактором, он пошлет вас в БАО?
БАО — батальон аэродромного обслуживания — в глазах фронтовых корреспондентов был глубоким тылом, хотя во время войны, в первые ее месяцы, доставалось нашим авиатехникам, пилотам немало и от немецкой авиации, и от прорывавшихся через линию фронта фашистских танков и мотоциклистов. Галин смерил Эренбурга сердитым взглядом и на шутку ответил шуткой: «Если не возражаете, можно отправиться в БАО на пару»; Илья Эренбург тоже не отличался бравым воинским видом.
С легкой руки Ильи Григорьевича в редакции Галина величали «рядовым, необученным». В эту группу, кстати, входили и сам Эренбург, и Гроссман — писатели, до войны в армии не служившие. Что же касается Галина, была, правда, попытка обучить его строевой выправке, он сам не без юмора рассказывал об этом. Случилось это в прошлом году в Тбилиси, куда Галин заехал из действующей армии на день-два, чтобы передать свой очерк в редакцию. Настроение у писателя было радужное, очерк как будто удался, может быть, уже добрался в Москву. Шел Галин вразвалку по главной улице города, пилотку заткнул за пояс, никого вокруг не замечал. Не обратил внимания и на высоченного роста полковника. Тот поздоровался, назвал себя комендантом города и весьма строго осведомился:
Почему старший политрук без головного убора? И не приветствует старших по званию?
Галин пустился было в объяснения, долгие и невнятные. Но комендант отобрал у него удостоверение личности и приказал:
Завтра утром явитесь в Александровский сад. Там вернут вам удостоверение… когда подучат.
Рано утром Галин пришел в указанный сад, где было полным-полно офицеров, преимущественно в авиационной форме. «Авиация» попала сюда, очевидно, по тем же причинам, что и Галин. Бравый старшина построил «штрафников» и долго учил их держать шаг, отдавать честь, словом, муштровал, согласно всем премудростям устава.
Но если со строевой выправкой у Галина так ничего и не вышло, то фронтовая закалка пришла к нему довольно быстро. Вспоминаю, что на Брянский фронт в первые месяцы войны я его сам вывозил и видел в разных сложных ситуациях. Видел его и на Северо-Кавказском фронте, знал о его мужестве по рассказам спецкоров — нет, ни разу не посрамил он краснозвездовской чести. Ведь пожаловались однажды на него коллеги: идет бомбежка, а он вылез из окопа с блокнотом, чтобы «обозревать» поле боя в этой ситуации…
Надо сказать, что и военную тематику Галин не сразу освоил. Передо мной лента моих переговоров по Бодо с Павлом Трояновским, возглавлявшим группу наших корреспондентов на Южном фронте. В нее входил и Галин. Можно прочесть на ленте такие слова: «Очерки Галина «Береза» и «Август» получили. Оба не годятся. По очеркам нам трудно судить, как развиваются события на фронте. Галин оправдывается какой-то индивидуальностью. Передайте ему, чтобы начал писать не то, что ему хочется, а то, что нужно газете. В частности, пусть пришлет очерк о том, что делается сейчас в районе боев…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: