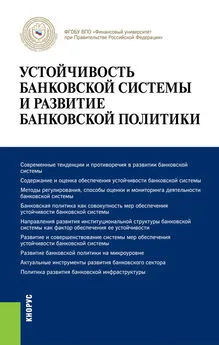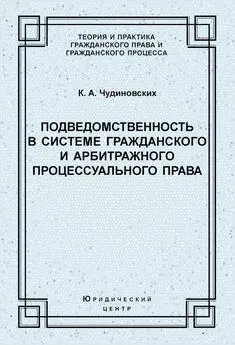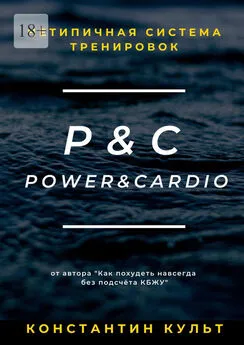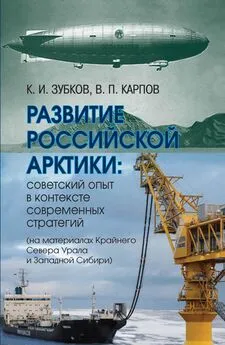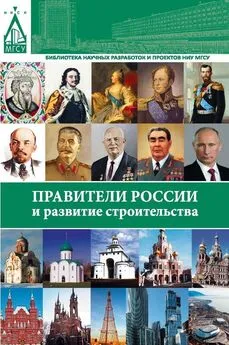Константин Вержбицкий - Развитие системы принципата при императоре Тиберии (14–37 гг. н. э.)
- Название:Развитие системы принципата при императоре Тиберии (14–37 гг. н. э.)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Санкт-Петербургского Университета
- Год:2002
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Вержбицкий - Развитие системы принципата при императоре Тиберии (14–37 гг. н. э.) краткое содержание
Развитие системы принципата при императоре Тиберии (14–37 гг. н. э.) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
По мнению его научного оппонента К. У. Хилтона, в Римской империи в начале нашей эры далеко не всё обстояло так благополучно с соблюдением законов, как представляется Р. С. Роджерсу. Суд в случаях обвинения в оскорблении величия вершился по произволу принцепса, а сам закон использовался для преследования за неосторожные высказывания, оккультную практику и прочие действия, ничего общего не имеющие с реальной государственной изменой. Следовательно, практика lex majestatis является ярким примером произвола и деспотизма римских императоров. [315] Chilton C. W. The Roman law of treason under early principate // JRS. Vol. XLV, 1955. P. 73–81. — Мы оставляем в стороне историографический аспект их полемики, а именно: могут ли сочинения Ульпиана и других юристов эпохи поздней империи использоваться как источник по истории развития римского законодательства о laesa majestas в I веке н. э.
Другой особенностью взглядов Р. С. Роджерса является строгое разграничение понятий majestas и perduellio: crimen majestatis подразумевал лишь оскорбительные выпады в адрес принцепса и его семьи в устной или письменной форме, тогда как заговор, покушение на жизнь Цезаря, предательство на войне и другие серьёзные антигосударственные преступления попадали в разряд perduellio . [316] Rogers R. S. 1) Treason in the early Empire. P. 90–94; 2) Tacitian pattern in narrating treason trials. P. 279–317.
Подобная дефиниция применительно к императорской эпохе является искусственной, так как к концу позднереспубликанского периода (46 г. до н. э., lex Julia majestatis ) laesa majestas ( crimen laesae majestatis Populi Romani ) полностью вытесняет perduellio из юридической практики и включает в себя все преступления против государства и существующего режима, в ранней республике рассматривавшиеся как crimen perduellionis : " Non quisquis legis Juliae majestatis reus est: in eadem conditione est sed qui perduellionis reus est " (Dig., XLVIII, 4, 11). [317] Kubler B. Majestas // RE. Bd. XIV, 1928. Sp. 545; Портнягина И. П. Сенат и сенаторское сословие в эпоху раннего принципата. Дисс… кан-та ист. наук. Л., 1983. С. 114.
Концепцию Р. С. Роджерса можно рассматривать как дальнейшее развитие идеи Ф. Б. Марша о различии в политических процессах основного и вспомогательного обвинений: последнее обыкновенно служило лишь поводом, чтобы начать расследование, в ходе которого выдвигалось главное обвинение. В тех случаях, когда дело завершалось досрочно, например, из-за самоубийства обвиняемого, главное обвинение могло не попасть в acta senatus . Данное обстоятельство и стало одной из причин многочисленных искажений в источниках. [318] Marsh F. B. The reign of Tiberius. P. 293.
Хотя этой гипотезе нельзя отказать в остроумии и известном изяществе, но, как справедливо отметил Дж. Бэлсдон, маловероятно чтобы все процессы развивались по одному и тому же сценарию, и столь же маловероятно, чтобы все люди, добровольной смертью упредившие неизбежное осуждение, были действительно виновны. [319] Balsdon J. P. V. D. The principates of Tiberius and Gajus. P. 91.
Следует отметить, что, хотя российские историки традиционно более сдержаны в критике источников, версия Корнелия Тацита не вполне разделяется и ими. Так, по мнению Э. Д. Гримма, императорская власть использовала политические процессы (которые, впрочем, должны расцениваться скорее как юридические убийства) чтобы обуздать властолюбивые тенденции враждебной аристократии. В том, что они приняли широкий размах и от них пострадали невинные люди, вина не одного Тиберия: ответственность должно разделить с ним современное ему общество. [320] Гримм Э. Д. Исследования по истории развития риской императорской власти. Т. I. СПб., 1900. С. 286, 319.
Историки, работавшие в советское время, также видят в процессах реакцию императора на оппозицию старой аристократии, [321] Сергеев В. С. 1) Очерки по истории Древнего Рима. Л., 1938. С. 417–421; 2) Принципат Тиберия // ВДИ. 1940, № 2. С. 79–94; Машкин Н. А. История Рима. М., 1947. С. 400; Ковалёв С. И. История Рима. Л., 1986. С. 504–505, 508–509.
но сам факт террора не ставится под сомнение. [322] Егоров А. Б. 1) Политическое развитие системы принципата при Тиберии (14–37 гг. до н. э.) // Социальная структура и политическая организация античного общества. Л., 1982. С. 135–162; 2) Рим на грани эпох. Л., 1985. С. 140–151; 3) Становление и развитие системы принципата. Автореф. дисс… д-ра исторических наук. Л., 1992. С. 23–26.
Таким образом, в современной исторической литературе широко распространен взгляд на политические процессы в эпоху раннего принципата как на некую "самозащиту" [323] Выражение И. М. Гревса. См.: Гревс И. М. Тацит. М-Л., 1946. С. 185.
императора от враждебной ему оппозиции. Для нас подобная точка зрения неприемлема ввиду очевидной неадекватности мер, принимавшихся императорами для своей защиты. Г. Буассье в уже цитировавшемся нами труде, посвящённом общественной жизни Рима в первое столетие империи, прекрасно показал, сколь несерьезной была та самая оппозиция, от которой якобы защищались Цезари. [324] Буассье Г. Оппозиция при Цезарях // Сочинения Гастона Буассье. Т. II. СПб., 1993. С. 282–285.
Самые решительные из недовольных желали лишь доброго государя, такого, который будет управлять империей, не творя при этом беззакония. Сторонников республики, стремившихся ограничить власть императора, среди них не было вовсе: не императорскую власть, но деспотизм и жестокость этой власти они хотели бы видеть ограниченными. В огромном большинстве случаев "оппозиционность" выражалась в высказываниях, критике правительства (большей частью мелочной и неконструктивной), литературной деятельности или образе мыслей.
Мы постараемся доказать, что в конфликте власти и общества в римской империи в I в. н. э. именно императорская власть в лице её главных представителей, принцепсов (считая сюда и Тиберия), выступала в качестве активной, наступающей стороны, а плетущая паутину заговоров оппозиция — лишь плод воображения новейших историков.
1. Республиканские leges de majestate
Изменения в практике закона при Августе
Тацит сообщает, что при Тиберии закон об оскорблении величия римского народа, созданный для защиты государственных интересов, начинает использоваться против ни в чем не повинных граждан (Tac. Ann., I, 72). Чтобы разобраться в этом, обратимся сначала к истории римских законов о политических преступлениях.
Понятие "величия" ( majestas ) имело в жизни римской республики большое общественно-политическое значение. Сопоставление его с imperium, potestas, dignitas, auctoritas показывает, что невозможно ни идентифицировать данное понятие с какой-либо одной этих государственно-правовых категорий, ни признать majestas их суммарным выражением. Обладателями majestas выступают, прежде всего, римские боги, затем Populus Romanus , римская гражданская община ( civitas ), её политические институты (в первую очередь сенат), и должностные лица ( magistratus ). Величием по отношению к членам своей семьи обладал и pater familias . [325] Kubler B. Majestas. Sp. 542–544; Drexler M. Majestas // Aevum. Bd. XXX, 1956. S. 195–212.
Диктаторы, консулы, народные трибуны не могли быть привлечены к суду во время пребывания в должности именно в силу majestas их магистратур. [326] Портнягина И. П. Сенат и сенаторское сословие… С. 110–111.
Интервал:
Закладка: