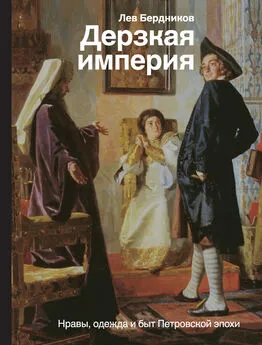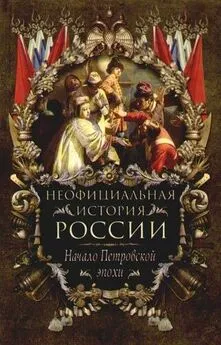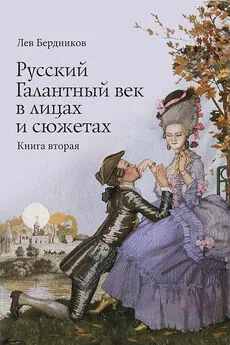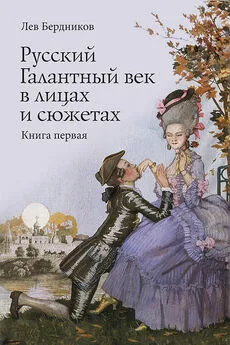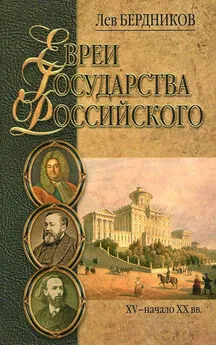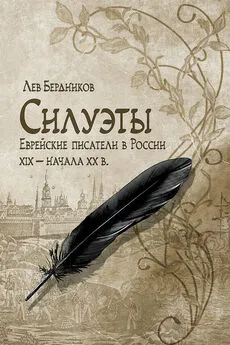Лев Бердников - Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи
- Название:Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-109670-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лев Бердников - Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи краткое содержание
Дерзкая империя. Нравы, одежда и быт Петровской эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Противники реформ (и прежде всего государева бабка Евдокия) не уставали твердить, что надобно отказаться от иноземной одежды и вернуться к стародавним ферязям и охабням. Но Петр II все не уступал, проявляя здесь завидную твердость. По словам писателя Александра Павлова, он нипочем «не соглашался на измену французскому платью. Ему так нравились его изящные, красивые кафтаны и так смешно было царское одеяние прежних дней!» Заметим, в этом пункте мальчишка на троне выказал свой норов самодержца. И хотя некоторые царедворцы (вкупе с влиятельнейшим тогда семейством Долгоруковых) держали наготове в своих рундуках и комодах груды дореформенного платья, победу одержали «французокафтанники» (как назвал их Николай Гоголь), то есть возобладал не изоляционизм, а тенденция европейского культурного единства. Ведь по всей Европе, как отметил американский историк костюма Джеймс Лэйвер, «доминировала тогда Франция: модная одежда означала, по крайней мере для высших классов, именно французскую одежду».
Придворная камарилья Петра II по внешности очень походила на версальских маркизов и маркиз – первых франтов и франтих своего времени. Евгений Карнович пишет, что «кавалеры щеголяли в шитых кафтанах с твердыми, как железные листы, широкими фалдами, узких панталонах, плотно натянутых чулках с подвязками, тяжелых башмаках; перчатках (вместо дедовских рукавиц) и алонжевых париках, с длинными, завитыми в букли волосами». Отличались живописностью и охотничьи костюмы – в красных шароварах, в горностаевых шапках и зеленых кафтанах с золотыми и серебряными перевязями царские стремянные и егеря были неподражаемы. Поражали изысканностью и легкие богатые робы придворных дам. Разряженные в пух и прах, московские светские львицы осваивали характерный язык любви и щегольской культуры.
Именно со времен Петра II ведет начало увлечение прекрасного пола тафтяными мушками, занесенными к нам с берегов Сены. История сей моды давняя. «Неизвестно, какой француженке-смуглянке первой пришла в голову мысль наклеивать маленькие кусочки черной тафты на лицо, – рассказывается в русском журнале Ни То ни Сио» (1769). – В конце XVI века для успокоения зубной боли прикладывали к вискам крошечные пластыри, положенные на вату и бархат. Кокетке не нужно было много времени, чтобы подметить, как эти пятнышки оттеняют белизну кожи… и придают увядшему лицу блеск. Таким образом мушки вошли в употребление, получили всеобщее одобрение и победили все препятствия, воздвигаемые против них строгими духовниками и моралистами – противниками красоты».
Интересно, что поклонниками мушек во Франции были не только дамы, но и мужчины, в их числе даже служители культа. Существовали специальные трактаты о «правильном» расположении мушек на лице, с точными указаниями об их величине и форме сообразно с местом их наклеивания; и каждая мушка имела свое название и строго определенное значение. Забавно, что в России первой половины XVIII века такие «Реестры о мушках» были очень ходким товаром и пользовались спросом не только в высших сферах – они попадали в мещанские и даже в крестьянские круги. Известный этнограф Дмитрий Ровинский в своем капитальном труде «Русские народные картинки» воспроизводит лубочный лист с подробным объяснением сокровенного смысла каждой накленной мушки: «На правой стороне – гордость; в длину против глаза – воровство. На правой брови – смирение. Под конец носа – одному отказ. Среди носа – всем отказ. Над левой бровью – щегольство или стыд. Под глазом – печаль; в длину против рта – любовь. Среди щеки – величество или красота. На левой брови – лесть. Над глазом – жеманство. По краям на устах – вертопрашество» и т. д. А на другом известном лубке того времени, названном «Пожалуй, поди прочь от меня!», представлена блинница, бранящаяся со своим ухажером; и лицо ее так и усыпано мушками.
Образ щеголя ярко запечатлен в «кусательных» сатирах Антиоха Кантемира (1708–1744), распространявшихся по всей России в многочисленных читательских списках. Его «Сатира I. На хулящих учение. К уму своему» и «Сатира II. На зависть и гордость дворян злонравных» написаны в 1729 году и изображают быт и нравы франтов и франтих того времени.
Антиох был знаком с европейской, и прежде всего французской, литературной традицией изображения щеголей (петиметров). А во Франции XVII–XVIII веков одних только комедий о них насчитывалось не менее шести десятков. Осмеянию щегольства отдал дань сам законодатель французского Парнаса Никола Буало-Депрео (1636–1711), сатиры которого Кантемир «склонял на наши нравы». И британские издатели Ричард Стил (1672–1729) и Джозеф Аддисон (1672–1719) в своих журналах «The Spectator» и «The Tattler», необычайно популярных во Франции (экземпляры их имелись, между прочим, и в личной библиотеке Кантемира), уделили вертопрахам самое пристальное внимание, язвя их с присущей им истинно английской иронией.
Не исключено, что в юности Кантемир сам был не чужд щегольства. Поступив в 1725 году на службу в Преображенский полк, он горделиво носил нарядный гвардейский мундир и упражнялся в сочинении любовных стихов и песенок, что было типичным для поведения франта В сатире IV «К музе моей» он признавался:
Любовны песни писать, я чаю, тех дело,
Коих столько ум не спел, сколько слабо тело…
Уж мне горько каяться, что дни золотые
Так непрочно стратил я, пиша песни тые.
В дальнейшем Антиох, по его словам, «искал отстать от сочинения любовных песен и прилежать к чему важнейшему». Он сделался государственным мужем, видным дипломатом и… отчаянным критиком петиметров и щегольства.
В 1726 году Кантемир переводит с французского языка «Некое итальянское письмо, содержащее утешное критическое описание Парижа и французов». Речь идет здесь и о разорительном щегольстве: «Зрится тамо на платьях все то, что роскошество лучше и изящнейше выдумать может. Дамы там всегда с новыми модами, и их убранства с лентами и драгоценными каменьями одеты видом некаким, сердце веселящим, показуют златыми и серебряными парчами беспрестанное свое попечение о великолепии. Мужие такожды с своей стороны так же суетны, как и женщины, с плюмажами и с белыми перушками (париками. – Л. Б. ) ходят, смотря того, чтоб полюбны были и чтоб уловити сердца, но часто сами уловляются…» И далее дается мрачное предсказание: «Итак, кажется, что Париж повседневно приближается к падению своему, буде то правда… яко чрезмерныя роскоши есть знак града, ищущего разориться». Но современникам было очевидно, что пророчество это почти дословно повторяет известную характеристику императора Петра I, данную французской столице: «Париж рано или поздно от роскоши падет или от смрада вымрет». Петр Великий, как известно, был ярым противником щегольства, и Антиох, судя по выбору произведения для перевода, был с ним в этом вполне солидарен.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: