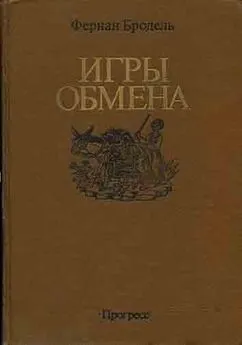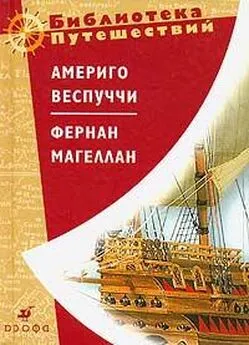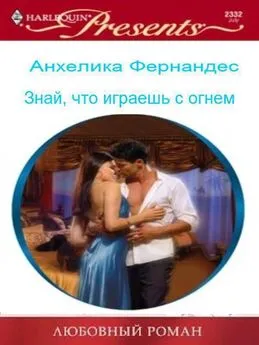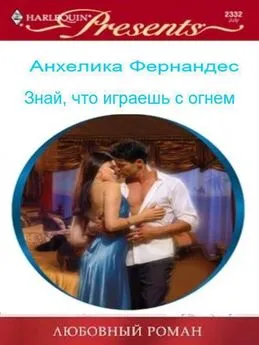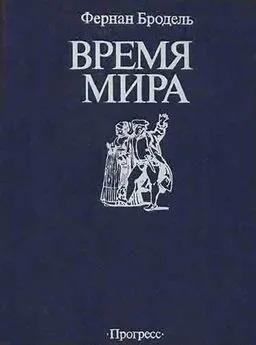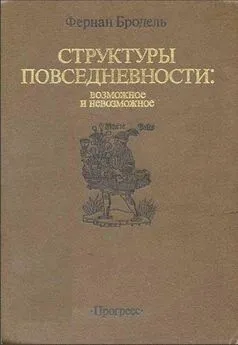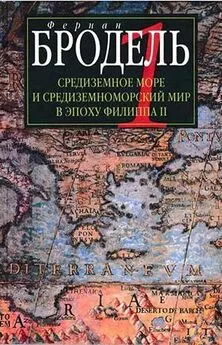Фернан Бродель - Игры обмена
- Название:Игры обмена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фернан Бродель - Игры обмена краткое содержание
Игры обмена - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Следовательно, порой бывали изменения модели. А в определенных случаях существовала возможность того, что то там, то тут оказывалось необходимым одно и то же решение, которое не обязательно было заимствованием. В данном случае темные века европейского раннего средневековья лишают нас всякой уверенности. Но, принимая во внимание привычку средневековых купцов к странствованиям и хорошо известные пути их торговли, заимствование по меньшей мере некоторого числа форм торговли должно было иметь место. Именно на эту мысль наводит тот лексикон, который Запад позаимствовал у мусульманского мира: таможни ( douanes ), склад ( magasin ), левантинские каботажные суда ( mahones ), торговый двор ( fondouk ), продажа на срок с немедленной перепродажей ( mohatra , которую латинские тексты XIV в., рассматривавшие ростовщичество, именовали contractus mohairае ). Другой признак — это дары Востока Европе: шелк, рис, сахарный тростник, бумага, хлопок, арабские цифры, система подсчетов на счетной доске, греческая наука, обретенная вновь в передаче мусульман, порох, компас — сколько же драгоценных благ было передано!
Согласиться с реальным характером этих заимствований означает отказаться от традиционных представлений о Западе многих историков, о Западе, якобы гениально и самостоятельно создавшем себя во всех отношениях, в одиночку двинувшемся вперед по путям научной и технической рациональности. Это означает лишить итальянцев средневековых городов заслуги открытия орудий современной торговой жизни. Больше того, это даже означает, следуя путем дедукции, выступить против Римской империи как непреложной модели. Ибо эта столь восхваляемая империя, пуп земли и собственной нашей истории, раскинувшаяся по всем берегам Средиземного моря с несколькими, то тут, то там, континентальными «наростами», была лишь частью античной мировой экономики, куда более обширной, чем она сама, экономики, которой суждено было на века пережить эту империю. Римская империя была связана с обширной зоной обращения и обмена, простиравшейся от Гибралтара до Китая, с мировым хозяйством ( Weltwirtschaft ) у где на протяжении столетий люди будут циркулировать по нескончаемым дорогам, перевозя в своих вьюках драгоценные товары, слитки, монеты, золотые и серебряные изделия, перец, гвоздику, имбирь, камедь, мускус, амбру, парчу, хлопковые ткани, муслины, шелка, атласы, затканные золотом, красильное и благовонное дерево, лаковые изделия, нефриты, драгоценные камни, жемчуг, китайский фарфор, ибо этот фарфор совершал путешествия задолго до появления прославленных Ост-Индских компаний.
Именно от этой торговли с одного конца света до другого жили в пору своего блеска еще Византия и мир ислама. Византия — мир реликтовый, несмотря на неожиданные вспышки энергии, погруженный в свою тяжеловесную пышность, которая должна была очаровывать варварских правителей, обеспечивать господство над народами, бывшими у империи на службе, — ничего не отдавала иначе, как за золото. Ислам, напротив, был оживленным, он привился на Ближнем Востоке и на лежавших в его основе реальностях, а не на старом греко-римском мире. Странам, покоренным мусульманским завоеванием, принадлежала активная роль в восточной и средиземноморской торговле до появления новых пришельцев. И они вновь станут играть эту роль, как только на мгновение поколебленные привычки снова возьмут свое. Два главных инструмента мусульманской экономики — золотая монета динар и серебряная монета дирхем — были один византийского (динар = denarius ), а другой — сасанидского происхождения. Исламу достались страны, из которых одни были верны золоту (Аравия, Северная Африка), а другие — серебру (Иран, Хорасан, Испания) и которые остались им верны, потому что этот биметаллизм, «территориально распределенный», варьировал тут и там, но встречался и столетиями позднее. Следовательно, то, что мы называем экономикой мусульманского мира, было приведением в движение унаследованной системы, эстафетой с участием купцов испанских, магрибинских, египетских, сирийских, месопотамских, иранских, эфиопских, гуджаратских, купцов с Малабарского побережья, китайских, индонезийских… Мусульманская жизнь сама находила там свои центры тяжести, свои сменявшие друг друга «полюса»: Мекку, Дамаск, Багдад, Каир; выбор между Багдадом и Каиром зависел от выбора пути на далекий Восток: через Персидский залив, из Басры и Сирафа, или же через Красное море, из Суэца и Джидды, порта Мекки.
Принимая во внимание доставшееся ему наследие, ислам даже еще до того, как он появился, был торговой цивилизацией. Мусульманские купцы издавна пользовались, по крайней мере у политических владык, уважением, на которое Европа а том, что касалось ее купцов, будет весьма скупа. Сам пророк будто бы сказал: «Купец равно блажен в сем мире и в будущем»; «Кто зарабатывает деньги, угоден Аллаху». И этого почти достаточно, чтобы представить ту атмосферу уважения, которая окружала торговую жизнь и ясными примерами которой мы располагаем. В мае 1288 г. мамлюкское правительство попробовало привлечь в Сирию и Египет купцов Синда, Индии, Китая и Йемена. Можно ли вообразить на Западе правительственный декрет, который высказывался бы по этому поводу следующим образом: «Мы обращаемся с приглашением к прославленным особам, крупным негоциантам, ищущим прибыли, или мелким розничным торговцам… Всякий, кто прибудет в нашу страну, сможет там жить, приезжать и уезжать по желанию своему… воистину, это райский сад для пребывающих в ней… Да будет благословение Аллаха над поездкою всякого, кто побудит к благому деянию посредством займа и совершит благое деяние посредством ссуды». Вот традиционные рекомендации государю в Османском государстве двумя веками позднее, во второй половине XV в.: «Благосклонно относись к купцам в стране; неизменно проявляй о них заботу; никому не дозволяй их притеснять, отдавать им приказания; ибо посредством их торговли страна достигает процветания, а благодаря их товарам повсюду царит дешевизна» 333 333 Inalčik H. Capital formation in the Ottoman Empire.— “Journal of Economic History”, march 1969, p. 102.
.
Что значили в сравнении с такой значимостью торговых экономик религиозные щепетильность и тревоги? Однако мусульманский мир, как и христианский, терзал своего рода ужас перед ростовщичеством — язвой, обретшей новую жизнь и получившей всеобщее распространение из-за обращения монеты. Купцы, которым выказывали благосклонность государи, возбуждали враждебность простонародья, особенно ненависть ремесленных цехов, братств и религиозных властей. Слова первоначально нейтральные, «такие, как базарган и матрабаз , которыми в официальных текстах обозначали купцов, в народном языке получили уничижительное значение „рвач“ и „мошенник“» 334 334 Ibid., p. 105—106.
. Но эта ненависть народа была одновременно признаком богатства купцов и их гордости. Не стараясь извлечь из сравнения слишком многое, мы все же поражаемся словам, которые ислам приписывает Мухаммеду: «Если бы Аллах дозволил жителям рая торговать, они бы торговали тканями и пряностями» 335 335 Rodinson M. Islam et capitalisme, p. 34.
, сопоставляя их с поговоркой, распространенной в христианском мире: «Торговля должна быть свободной, без ограничений до самой преисподней».
Интервал:
Закладка: