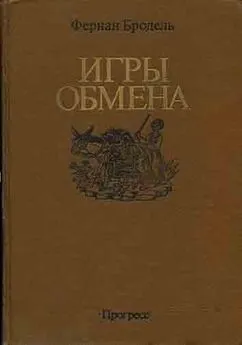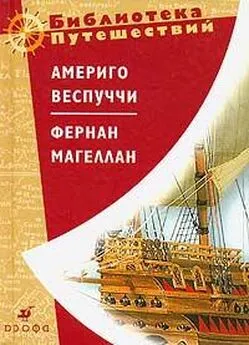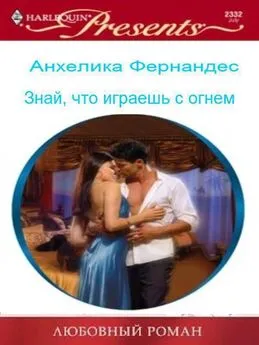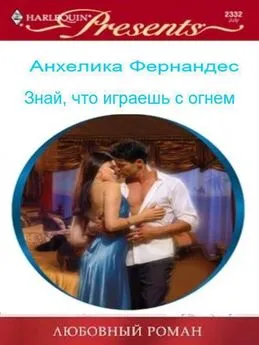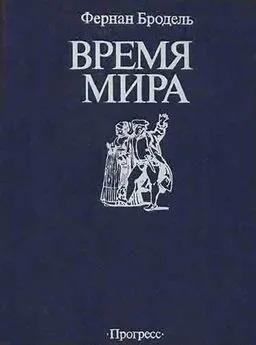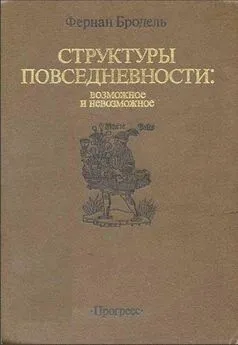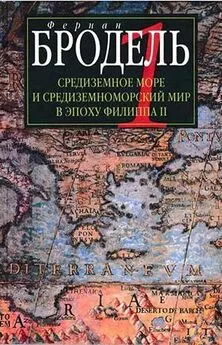Фернан Бродель - Игры обмена
- Название:Игры обмена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1988
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фернан Бродель - Игры обмена краткое содержание
Игры обмена - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И не только в рынке было дело. Разве же город не вытеснял зачастую свои ремесла в деревни, чтобы избежать цеховых пут, существовавших в его стенах? С тем, впрочем, чтобы их вернуть в свои стены, когда это бывало ему выгодно. Разве не приходил крестьянин постоянно в город, привлекаемый тамошними высокими заработками? И разве же сеньор не строил в городе свой дом, а то и свой дворец? Италия первой, опередив остальную Европу, познала это «внедрение в города» (inurbamento). А становясь горожанами, сеньеры приводили с собой тесно сплоченные группы, свои деревенские кланы, которые в свою очередь оказывали давление на экономику и на жизнь городской общины 114 114 Heers J. Le Clan familial au Moyen Age. P., 1974.
. Наконец, город — это и законники, которые пишут [бумаги] для тех, кто писать не умеет, эти зачастую лжедрузья, мастера-крючкотворы и даже ростовщики, которые заставляли подписывать долговые расписки, взимали тяжкие проценты и захватывали отданные в залог имущества. С XIV в. лавка ( casana ) ломбардца была ловушкой, куда попадался берущий ссуду крестьянин. Начинал он с заклада своего кухонного инвентаря, «кувшинов для вина», земледельческих орудий, потом — скота, а в конечном счете — своей земли 115 115 Chomel V. Communautés rurales et casanae lombardes en Dauphiné (1346). Contribution au problème de l'endettement dans les sociétés paysannes du Sud-Est de la France au bas Moyen Age.— “Bulletin philologique et historique”, 1951 —1952, p. 245.
. Ростовщический процент достигал фантастических размеров, едва лишь затруднения становились серьезными. В ноябре 1682 г. интендант Эльзаса разоблачал нетерпимые ростовщические операции, жертвами которых стали крестьяне: «буржуа заставили их соглашаться на 30 % роста», а иные потребовали заклада земель с выплатой в качестве процента «половины их урожая… оная выплачивается ежегодно наравне с основной суммой, каковая была получена взаймы». Безошибочно можно сказать: то были займы из 100 % годовых 116 116 Livet G. L’Intendance d’Alsace sous Louis XIV, 1648—1715. 1956, p. 833.
.
НА ЗАПАДЕ — ЕЩЕ НЕ УМЕРШИЙ СЕНЬЕРИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК
Сеньериальная организация, «встроенная» в жизнь крестьянина, смешанная с нею, разом и защищала и угнетала ее. Следы ее и ныне еще узнаваемы по всем ландшафтам Запада. Я знаю две заурядные деревни на границе Барруа и Шампани, некогда бывшие в составе одного скромного сеньериального владения. Замок стоит по-прежнему возле одной из этих деревень, в том виде, в каком он, несомненно, был восстановлен и оборудован в XVIII в., со своим парком, своими деревьями, водоемами, с гротом. Сеньеру принадлежали мельницы (ими не пользуются, но они все еще на месте), пруды (они существовали еще вчера). Что же до крестьян, то они располагали своими огородами, посевами конопли, виноградниками, своими фруктовыми садами и полями вокруг деревенских домов, прилепившихся друг к другу. Еще вчера поля были разделены на три «запашки» — пшеница, овес, пары ( versaines ), — которые каждый год сменяли одна другую. В непосредственном распоряжении сеньера, как собственника, находились ближние леса на вершине холмов и два «заказника» — по одному на деревню. Один из этих земельных участков оставил свое название месту,
Замок с вызолоченной по бургундской моде черепичной кровлей, возвышающийся над своей деревней: замок Рошпо стоит на дороге, ведущей к Арнэ-ле-Дюк в департаменте Кот-д’Ор. Фото Рафо, клише Гурса.
именуемому Корвэ ( Барщина ); второй же послужил рождению огромной единой фермы, аномальной среди небольших крестьянских наделов. Для крестьянского же пользования были открыты только отдаленные леса. Создавалось впечатление замкнутого в себе мирка со своими крестьянами-ремесленниками (кузнецом, тележником, сапожником, шорником, плотником), упрямо стремившегося производить все, даже собственное вино. За чертой горизонта располагались другие плотно сгруппированные деревни, другие сеньерии, которые здесь плохо знали и над которыми, следовательно, издалека посмеивались. Фольклор полон таких старинных насмешек.
Но эту рамку надо бы заполнить: сеньер — какой сеньер? Повинности — денежные, натуральные, отработочные (барщина), — каковы были эти повинности? В том заурядном случае, который я воскрешаю в памяти, повинности были в 1789 г. легкими, барщинные работы — немногочисленными: два-три дня в году на пахоте и извозе; мало-мальски серьезные тяжбы касались только пользования лесами.
Но от одной местности к другой многое менялось. Следовало бы умножить число поездок: отправиться вместе с Андре Плессом в Ле-Нёбур, в Нормандии 117 117 Plaisse A. La Baronnie de Neubourg. 1961.
, с Жераром Делилем — в Монтесаркьо, в королевстве Неаполитанском 118 118 Delille G. Op. cit., 1975.
, с Ивонной Безар — в Жемо, в Бургундии 119 119 Bézard Y. Une Famille bourguignonne au XVIII e siècle. P., 1930.
. Вскоре мы отправимся в Монтальдео в обществе Джорджо Дориа. Вполне очевидно, ничто не сравнится с непосредственным и точным взглядом, какой как раз и предлагают все как одна монографии, порой превосходные.
Но наша проблема заключена не только в этом. Лучше спросим себя в самом общем плане: почему же тысячелетний сеньериальный порядок, восходивший самое малое к крупным латифундиям поздней Римской империи, смог выжить до начала нового времени?
А ведь ему выпало немало испытаний. Сверху сеньера ограничивали узы феодальной зависимости. И узы эти не были фиктивными, они связаны были с выплатой феодальных рент, вовсе не всегда легких, с «подтверждением» верности ( aveux ), с тяжбами. Существовали также казуальные выплаты и феодальные «права» в отношении государя; порой они бывали тяжкими. Жан Мейер полагает, что в XVIII в. доход знати (но он говорит о знати бретонской, а это был довольно специфический случай) ежегодно «урезался» на 10–15 % 120 120 Meyer J. Op. cit., p. 780.
. Уже Вобан утверждал, «что ежели бы все было хорошо изучено, то обнаружилось бы, что дворяне не менее обременены, нежели крестьяне» 121 121 Vauban. Le Projet d'une dixme royale. Éd. Coornaert, 1933, p. 181, цит. y: Meyer J. Op. cit., p. 691, note 1.
, что явно было огромным преувеличением.
Что же касается рент и повинностей, которые сами дворяне взимали с крестьян, то они обнаруживали досадную тенденцию к сокращению. Повинности, зафиксированные в деньгах в XIII в., сделались смехотворными. Барщинные повинности были на Западе в общем выкуплены. Доход с баналитетной хлебной печи составлял несколько пригоршней теста, взимавшихся с того, что крестьяне раз в неделю приносили для выпечки. Некоторые натуральные повинности сделались символическими: с каждым последующим разделом цензивы иные крестьяне должны были выплачивать четвертую, восьмую или шестнадцатую долю каплуна 122 122 Plaisse A. Op. cit., p. 61.
! Сеньериальный суд в мелких делах был скор, но не настолько обременителен для [крестьянина], чтобы обеспечить существование тех судей, которых назначал сеньер: к 1750 г. в Жемо, в Бургундии, из общей суммы дохода в 8156 ливров судебные издержки и штрафы составили 132 ливра 123 123 Bézard Y. Op. cit., p. 32.
. И такая эволюция шла тем успешнее, что самые богатые сеньеры, те, что могли эффективно защитить свои местные права, теперь почти не жили на своих землях.
Интервал:
Закладка: