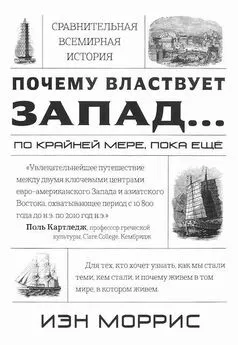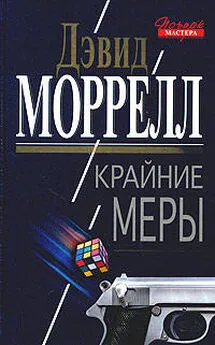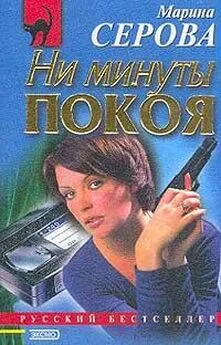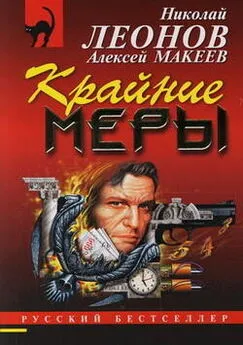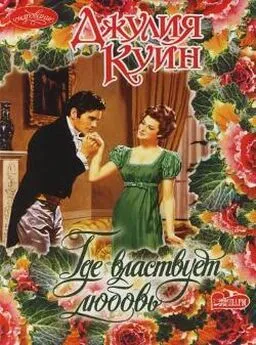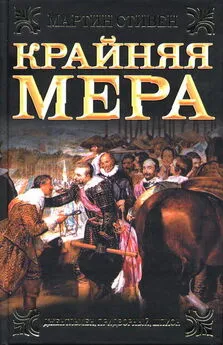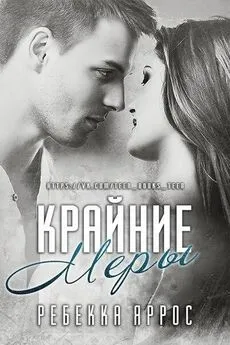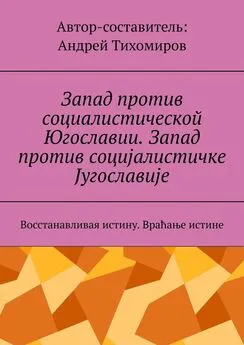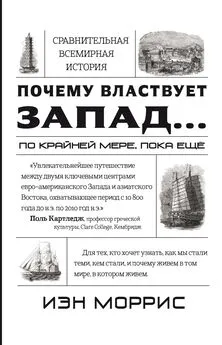Иэн Моррис - Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще
- Название:Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Карьера Пресс
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00074-078-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иэн Моррис - Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще краткое содержание
Известный историк и археолог, преподаватель Стэнфордского Университета Иэн Моррис рассказывает о 15 тысячелетиях человеческой истории, последние два из которых Запад играет в мире доминирующую роль. Моррис объясняют причину упадка и поражения Востока в историческом соревновании с Западом. Но будет ли властвовать Запад бесконечно? Иэн Моррис предлагает свежий взгляд практически на каждое важное историческое событие. Он описывает закономерности человеческой истории, анализирует события современности и делает прогнозы относительно ситуации в будущем.
Иэн Мэттью Моррис дает неожиданные ответы, подкрепляя их тщательно выверенными фактами, сводя воедино последние результаты исследований в археологии, искусстве, метеорологии, медицине, нейропсихологии, антропологии.
Почему властвует Запад... по крайней мере, пока еще - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чжуан-цзы, один из даосских учителей, рассказал историю о другом великом даосском мастере по имени Ле-цзы. После того как он годами искал Путь, Ле-цзы понял, что он ничему не научился. «Он вернулся домой и три года не показывался на людях.
Сам готовил еду для жены.
Свиней кормил как гостей.
Дела мира знать не хотел.
Роскошь презрел , возлюбил простоту.
Возвышался один, словно ком земли.
Не держался правил, смотрел в глубь себя.
Таким он прожил до последнего дня» 21 .
Чжуан-цзы полагал, что Ле-цзы сделал активизм Мо-цзы и Конфуция смешно выглядящим и даже опасным. Воображаемый собеседник у Чжуан-цзы говорит Конфуцию: «Ты не можешь вынести страданий одного поколения, а высокомерно навлекаешь беду на десять тысяч поколений. Ты бездумно держишься за старое и не способен постичь правду. Упиваться собственной добротой — это позор на всю жизнь! Так ведут себя лишь заурядные людишки, щеголяющие друг перед другом своей славой, связывая друг друга корыстными помыслами. Вместо того чтобы восхвалять Яо и порицать Цзе, лучше забыть о них обоих и положить конец их славе. Ведь стоит нам повернуться — и мы тут же причиним кому-нибудь вред, стоит нам пошевелиться — и кому-то станет из-за нас плохо. Мудрый как бы робко берется за дело — и каждый раз добивается успеха. А как быть с тобой? Неужели ты так и не изменишься до конца жизни?» И наоборот, Мо-цзы поразил Чжуан-цзы как «воистину лучший муж во всей Поднебесной, никто не смог бы с ним сравниться». Однако при этом Чжуан-цзы считал его человеком, отвергавшим удовольствие от жизни: «Последователи Мо-цзы в последующих поколениях стали одеваться в одежды из шкур, носить деревянные туфли и травяные сандалии. Ни днем ни ночью не знали они покоя и считали самоистязание высшим достижением». В итоге, по мнению Чжуан-цзы, «к живым он [Мо-цзы] относился слишком строго, а к мертвым — слишком пренебрежительно, и Путь его был слишком суров». «Даже если сам Мо-цзы мог взвалить на себя такое бремя, — спрашивал Чжуан-цзы, — то пойдет ли за ним свет?»
Мо-цзы отвергал Конфуция; Чжуан-цзы отвергал Конфуция и Мо-цзы; однако так называемая легистская традиция отвергала их всех. Легизм был «антиосевым» вариантом выбора, более макиавеллистским, нежели у самого Макиавелли. Легисты полагали, что понятия жэнь, цзянь ай и дао — все упускают суть. Попытка выйти за пределы реальности была глупой: богоподобные цари поручают управление тем, кто способен к управлению и стремится к эффективности, а остальные из нас должны согласиться с этой программой. Для правителя области Шан — жившего в IV веке до н. э. главного министра в государстве Цинь, ведущего светила легизма, — целью была не гуманность, а обогащение государства и усиление его военной мощи. Не поступай с другими так, как ты хотел, чтобы поступали с тобой, говорит правитель области Шан, потому что «если [во время войны] страна совершает действия, которых противник устыдился бы, то она будет в выигрыше» 22. Не следует быть хорошим и не следует делать хорошее, потому что «если управлять людьми как порочными, то всегда утверждается образцовый порядок и страна достигает могущества». Не расточайте время на ритуалы, активизм или фатализм. Вместо этого составьте исчерпывающие кодексы законов с жестокими наказаниями (обезглавливание, погребение живьем, тяжелый труд) и жестко навяжите их каждому. Легисты любили говорить, что, подобно угольнику плотника, законы заставляют сырые материалы подчиняться порядку.
Китайская мысль «Осевого времени» включала направления от мистицизма до авторитаризма и постоянно эволюционировала. Например, ученый III века до н. э. Сюнь-цзы объединял конфуцианство, идеи Мо-цзы и даосизм и искал общую основу с легизмом. Многие легисты приветствовали трудовую этику Мо-цзы и принятие существующего положения вещей у даосов. На протяжении столетий идеи образовывали все новые и новые сочетания, как в калейдоскопе.
Во многом то же самое верно и в отношении мысли «Осевого времени» в Южной Азии и на Западе. Я не буду детально рассматривать эти традиции, но даже беглый взгляд на маленькую территорию Греции вызывает ощущение бурлящего котла идей. Богоподобные цари ранее 1200 года до н. э. в Греции могли быть более слабыми, нежели в более старых государствах Юго-Западной Азии, а к 700 году до н. э. греки вообще решительно от них отказались. Возможно, это произошло, потому что они столкнулись даже более явно, нежели другие в «Осевое время», с вопросом о том, на что должно быть похоже хорошее общество в отсутствие правителей, имеющих контакты с иным миром.
Одной из реакций греков на это были поиски блага посредством коллективной политики. Если ни у кого нет доступа к сверхъестественной мудрости, спрашивали некоторые греки, то не приведет ли объединение ограниченных знаний, которыми обладает каждый человек, к созданию демократии (а именно мужской демократии)? Это была особенная идея, до которой не додумался даже Мо-цзы. Теоретики из школы «давней предопределенности» часто предполагали, что именно изобретение греками мужской демократии знаменует решительный разрыв между Западом и всеми остальными.
Дойдя до этого места, вы, вероятно, не удивитесь, услышав от меня, что я в этом не убежден. Уровень социального развития на Западе был более высоким, нежели на Востоке, еще за четырнадцать тысяч лет до того, как греки начали голосовать по тем или иным вопросам, и это первенство Запада незначительно изменилось на протяжении V и IV столетий до н. э. — золотого века греческой демократии. Только в I веке до н. э., когда Римская империя упразднила демократию, западное преобладание над Востоком резко возросло. Еще более серьезной проблемой, связанной с теорией «греческого разрыва» (как это станет понятно в главах с 6 по 9), является то, что демократия исчезла на Западе почти полностью на две тысячи лет, отделяющие классическую Грецию от Американской и Французской революций. Радикалы XIX века, конечно, считали Древние Афины полезным оружием в их дебатах о том, как может функционировать современная демократия, но при этом постарались просто героически выборочно прочесть историю, чтобы усматривать непрерывавшийся дух демократической свободы, простирающийся от классической Греции до отцов-основателей США (которые, кстати, были склонны использовать слово «демократия» как термин для описания злоупотреблений, которые лишь на шаг выше правления гангстеров).
В любом случае реальный вклад греков в мышление «Осевого времени» происходит не от демократии, а от критики демократии, в чем первенство принадлежало Сократу. Греция, доказывал он, не нуждается в демократии, которая попросту объединяет невежество людей, которые судят обо всем по внешнему виду. А вот в чем она нуждается, так это в людях — наподобие его самого, — которые знают, что, когда дело доходит до единственно имеющей значение вещи — природы блага, — то они не знают ничего. Только такие люди могут надеяться понять благо (если, конечно, кто-нибудь способен на это, — в чем Сократ не был уверен) посредством разума, отточенного в философских дебатах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: