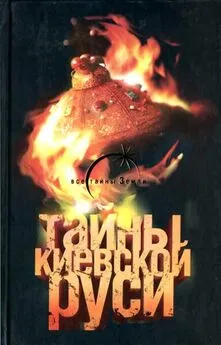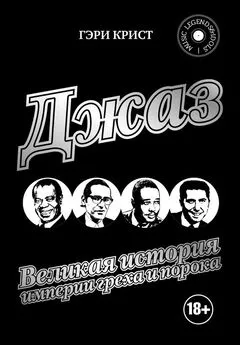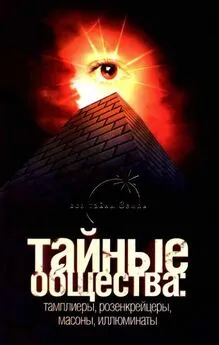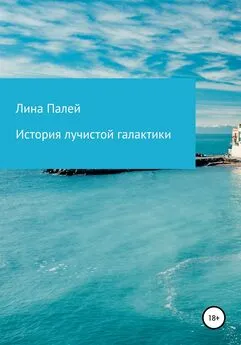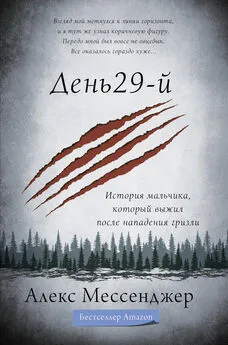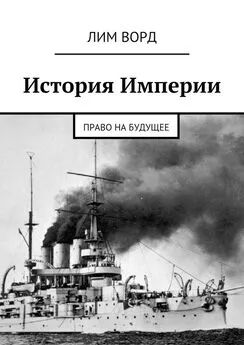Лин Паль - История Империи монголов: До и после Чингисхана
- Название:История Империи монголов: До и после Чингисхана
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ Москва, Астрель-СПб
- Год:2010
- Город:Москва, Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-17-067580-7, 978-5-9725-1808-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лин Паль - История Империи монголов: До и после Чингисхана краткое содержание
Божьей карой они казались и европейцам, и азиатам, поскольку сами стояли как бы вне религиозной игры, исповедуя тенгрианство.
Они создали свою Великую империю, но в конце концов от нее не осталось ровным счетом ничего. Век за веком они отступали все дальше и дальше — из Восточной Европы, из Средней Азии, из Индии, из Китая: припечатав намертво чужие границы, они откатились назад. Из дворцов среднеазиатских и китайских ханов, из дворцов Великих Моголов они вернулись к кочевому скотоводству, в юрты и степи.
Божья кара установила границы мира, а сама вернулась на родину.
Об этой удивительной истории монголов и пойдет речь.
История Империи монголов: До и после Чингисхана - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Группа монголов, живущая в настоящее время здесь и видевшая Эргунэ-кун, утверждает, что хотя это место [для жизни] тяжелое, но не до такой степени, [как говорят], целью же расплавления ими горы было [лишь] открытие иного пути для [своей] славы. Так как Добун-Баян, который был мужем Алан-Гоа, происходил из рода Кияна, a Алан-Гоа из племени куралас, то родословная Чингиз-хана… восходит к ним. Вследствие этого [люди] не забывают о той горе, плавке железа и кузнечном деле, и у рода Чингиз-хана существует обычай и правило в ту ночь, которая является началом нового года, приготовлять кузнечные мехи, горн и уголь; они раскаляют немного железа и, положив [его] на наковальню, бьют молотом и вытягивают [в полосу] в благодарность [за свое освобождение]».
Конечно, меха и горн — выдумка поздних хронистов, но суть исхода была приведена без искажений — запертым в горах племенам удалось найти горный проход и вырваться за пределы вынужденной изоляции. Тункинские легенды повествуют даже о размерах этого горна и этих мехов: горн был величиной с озеро, а меха — величиной с луга, если учесть, что хозяином горы Мон по местному преданию считался кузнец, а склоны самой горы и в самом деле имеют железорудные залежи, то место выхода народа монголов в большой мир можно найти точно — западный край долины. Именно там, при слиянии рек Белый и Черный Иркут находится странная скальная арка — она похожа на дыру в огромном камне. Это перевал Нухэн-Дабан. Вполне вероятно, что через этот проход и вышли монголы в бескрайние степи. Еще в XIX веке ученые отмечали, что местные жители (буряты, монголы, сойоты) совершают у этой естественной арки обряды жертвоприношения, а на горных склонах хорошо заметны наскальные рисунки и надписи, сделанные белой краской, по тибетскому образцу. Долина, лежащая внутри гор, это и есть Эргене-Кун, прародина монголов.
Насколько сложен выход из этой долины, можно судить по заметкам бурятского писателя Ангархаева: «Ведь долина, по которой протекает Иркут, действительно замкнута со всех сторон горами, что нетрудно забыть „тропинку, по которой предки пробрались в долину“. Если идти вверх по реке в сторону Монды или вниз дальше Тибельтей, она течет в таких теснинах, что пробираться не то что конному, но и пешему непросто! Многие километры скалистых гор Саян и Хамар Дабана, озера Байкал и Хубсугул более десяти дней потребуется, чтобы преодолеть эти безлюдные пространства до того, как выйти на широкие степи».
Энгер на местном наречии и по-монгольски означает одно и то же — стена, каменный ободок.
«Среди тех гор была обильная травой и здоровая (по климату) степь, — писал Рашид-ад-дин в „Сборнике летописей“. — Название этой местности Эргунэ-кун. Значение слова кун — косогор, а Эргунэ — крутой, иначе говоря, „крутой хребет“. Так что Эргене-Кун, или Эргене-Хол — это просто долина, окруженная отвесными стенами, скрытая земля монголов. И по долине, точно, протекает река Эрге-гуу-мурен. Сегодня долина называется Тунки и по ней протекает речка Иркут (Эргегуу, Эрхуу)».
Самое интересное, что именно здесь находится святыня бурятского народа — камень, имеющий название Престол Чингисхана или по-местному Чингис хаанай шэрээ.
Как пишет Ангархаев:
«…это огромный камень размером 7–8×5-6×1,5 м (высота), яйцевидный снизу, сверху плоский, имеет с одной стороны „стул-сиденье“ (камень размером 2,5-З×1,5×1 м (высота). Он лежит у самого подножия одной из вершин Саянских гор, называемой Хандагайтын Ундэр, на высоком (метров 10) отвесном берегу реки Баруун Хандагайта на довольно ровном месте.
Надо отметить, что вокруг него, ни вблизи, ни вдали нет вообще камней, либо выступающих из-под земли, либо лежащих на поверхности. От него к северу на расстоянии не более двухсот метров почти сразу стеной поднимается склон горы. Это издревле почитаемое место в Туше, связанное с именем Чингисхана и, как утверждают, с его деятельностью. Считается, что он, в самом деле, восседал на этом троне, за этим „столом“, исполняя ритуальные действия. Исключительное значение вкладывается в слово „шэрээ“ это не просто стол, а престол (хаанай шэрээ — ханский престол, хаан шэрээдээ хуугаа — хан взошел на престол, хаан шэрээхээнь буугаа или унаа — хан с престола сошел или скинули)…
Лама Лодой Базаров, бывший в новом дацане в начальной партии хувараков, рассказывал, как участвовал в первом ламаистском ритуальном действии. Правда, он говорил, что первым нашел камень лама Лошон (ширета лама), который сидел и долго изучал какой-то ксилограф, потом сказал: „Здесь должен быть престол Чингисхана“. Лошон пошел и полдня бродил по подножию гор и, вернувшись, оповестил о найденном святом месте. Ламы занялись благоустройством, просунув под камень несколько лиственничных бревен, приподняли камень с одного угла, выравнивая горизонтально, под кромками камня были найдены бараньи кости. Особенно всех удивило, что полые трубчатые кости конечностей филигранно точно были продольно разделены надвое. Это, видимо, особая ритуальная операция, но забытая позже, которая выявляла наружу костяной мозг (сэмгэ), можно предположить, что она проделывалась не всегда, а при жертвоприношениях довольно высокого ранга.
Вообще операция подобного рода имела совершенно точный смысл. Например, когда „большие роды одного происхождения в родовых делах достигали предела и должны были расходиться мирно, по договоренности, совершая обряды на обо [2] Обо — культовые места в культуре бурят и монголов.
: хоринцы разбивали берцовую кость жертвенного животного надвое, если род делился на две части. Куски кости как бы завещали делиться на группы или, наоборот, объединяться в большие роды…“ „Конечно, с самим Чингисханом „престол“, вероятнее всего, не связан никак, зато с его предшественниками он имеет прямую связь: надписи VIII века нашей эры, посвященные хану тюркского каганата Кюльтегина, прославляют подвиг воинов-тюрков, прошедших по глубокому снегу через горы и разбившему енисейских киргизов“».
Китайцы тоже относили «землю исхода» монголов, или, как они записывали их имя — народа мэнгу, к нашей отечественной Сибири.
Но вот вопрос: к какой расе принадлежали эти сибирские мэнгу?
Если учесть, где расположена эта прародина, то придется принять во внимание, что в начале второго тысячелетия эта земля принадлежала жителям Хакассии, Хакассия была сильной и занимала большую территорию: на востоке хакасское государство дошло до Амура, на юге распространилось на внутреннюю Монголию вплоть до Великой Китайской стены и до Кашагала в восточном Туркестане, на западе его границей стал Иртыш, на севере — широта Новосибирска и Селенги.
И самое интересное: Хакассия имела свои города, свой язык, свою письменность, свою средневековую металлургию, торговлю, религию! Расцвет этого края как раз и пришелся на IX столетие. У этого народа была сильная армия, ему удалось завоевать степи Центральной Азии, оттеснить и подчинить себе уйгуров, взять Туву. Расцвет Хакассии приходится на IX век нашей эры. Теперь, если мы сравним священные монгольские тексты с тем, что знаем о прародине монголов, то получим следующее: где-то в IX веке или немного ранее некие сибирские мэнгу бежали от врагов в защищенную горную долину, там они прожили на протяжении 300–400 лет. Род Чингисхана вряд ли был монголоидным, или, скорее всего, — был смешанным, поскольку с мэнгу в горную самоизоляцию могли уйти или быть угнанными местные светловолосые, высокие, синеглазые жители Хакассии. Эти мэнгу из Эргене-Кун мало соответствовали нашему представлению о монголах. Конечно, трудно сказать, все ли мэнгу из долины были европеоидного типа, но одно можно сказать наверняка: среди самих жителей Хакассии были и типичные монголоиды; в одном из захоронений найден мужчина такого типа, однако… он был погребен с накладной бородой, что само по себе очень любопытно! Следовательно, чисто монгольский тип лица в этом государстве не приветствовался. Если предки Чингисхана кочевали в пределах Байкала, то среди них могли оказаться люди не монголоидного типа. Именно эта странность и вызывала всегда столько раздражения у всех, кто изучал историю чингисидов. В сказаниях о Чингисе говорится об особенном его облике, которому придаются божественные черты — те самые, что отличают европеоида от настоящего монгола.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: