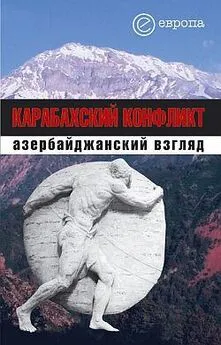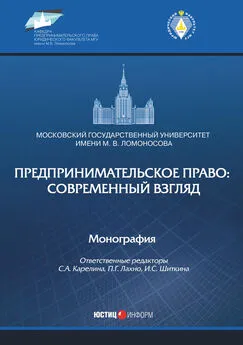Коллектив авторов - Вторая мировая: иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев»
- Название:Вторая мировая: иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев»
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Посев
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-85824-180-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Вторая мировая: иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев» краткое содержание
Вторая мировая: иной взгляд. Историческая публицистика журнала «Посев» - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Грубая оценка позволяет установить, что использовано было не более 20–30 % мощностей перевезённого оборудования. На оккупированной территории было демонтировано свыше 50 прокатных станов, а на востоке было пущено с теми станами, что уже ранее были в монтаже, всего не свыше 12–15.
Такова была фактическая эффективность переноса предприятий на восток. Из 31 850 предприятий, разрушенных при демонтаже, только около 1 500 удалось более или менее комплектно пустить на Урале, в Средней Азии и в Сибири.
Совсем катастрофически обстояло дело с переброской сельскохозяйственного инвентаря и скота. Весь колхозный и совхозный скот погнали на восток. Все дороги были покрыты павшими животными. Из 15–16 миллионов голов рогатого скота, перебрасывавшегося на восток, дошло и уцелело не более 4–5 миллионов голов.
На восток под давлением было вывезено значительное количество рабочих и служащих эвакуированных предприятий и учреждений. Фактические данные отсутствуют. Не то по соображениям государственной тайны, не то из-за неблагоприятных для правительства результатов. Грубый подсчёт показывает, что после оккупации в таких крупных городах запада, как Киев, Одесса, Минск, Днепропетровск, Запорожье, оставалось ещё от половины до двух пятых жителей. В малых городах осталось населения не меньше трёх пятых. Из деревни угоняли почти всё взрослое мужское население призывного возраста, но всё-таки в деревнях осталось, по-видимому, не менее трёх четвертей жителей. Из 80 миллионов человек, проживавших в этой части СССР до оккупации, было отправлено на восток около 20 миллионов человек. Из этого числа не менее половины были мобилизованы на фронт, на железные дороги и в шахты. Об этом говорит и то, что в городах востока население к началу 1943 года увеличилось до 20,3 миллиона человек против 15,6 миллиона в 1939 году.
Переброска населен™ на восток происходила в невероятно тяжёлых условиях. Многие ехали на открытых площадках в течение недель; организация транспорта и обслуживания в пути были поставлены безобразно. Люди были вынуждены в дороге продавать свои вещи для покупки продуктов питания. Цены же за это время поднялись в 10–15 раз, и хлеб продавался по 25–50 рублей за килограмм. Эвакуированных расселяли по несколько семейств в одной комнате. Части перевезённых пришлось оставаться месяцами под открытым небом, жить в палатках, в деревянных бараках или в землянках. Причём в палатках люди жили в течение всей суровой зимы 1941/42 года.
Советский транспорт был поставлен в тяжёлые условия работы вследствие резко изменившегося по характеру и усилившегося в напряжении движения. Подвижной состав западных железных дорог на 80 % был переброшен на восток. Косвенно это подтверждает и Вознесенский, когда сообщает, что страна на первом этапе войны потеряла 40 % железнодорожной сети и 20 % вагонного парка. Относительное увеличение подвижного состава на востоке не улучшило крайне напряжённого положения на железной дороге. Транспорт в СССР был перегружен и до войны, работал на полную пропускную способность, без всяких резервов. Насколько высок был развал на железных дорогах видно из того, что обеспеченность грузооборота транспортными средствами снизилась к 1942 году по сравнению с 1940 годом в 1,86 раза. Острейший кризис заставил в число закупок за границей ввести и приобретение 2 тысяч локомотивов (размер свыше годичного довоенного производства их) и свыше 13 тысяч тонн рельсов.
Следующая задача, поставленная перед экономикой страны, – мобилизация трудовых резервов – также осуществлялась сплошным насилием. Деревня осталась почти без мужчин, в сёлах на 100 колхозных дворов осталось не более 8-10 мужчин в призывном возрасте, да и то только те, кто был забракован, признан негодным для армии и мобилизации в город. Только в течение одного 1943 года было мобилизовано из села свыше 7,6 миллиона человек, не считая мобилизованных в армию. Уже в начале 1943 года в селе 71 % работников составляли женщины, около 4 % – мальчики в возрасте до 18 лет и около 9 % старики свыше 50 лет.
Деревня потеряла не только мужскую силу, но и механизированную силу тракторов и грузовиков. Всё, что можно было взять, было отправлено в армию. Корова и лопата остались спасать социалистическую деревню.
Перебрасывая неполноценную рабочую силу в город, советская власть провела тотальную мобилизацию мужского населения на военную службу. Даже такие важные в стратегическом отношении отрасли промышленности, как металлургия и горное дело, остались без квалифицированного персонала. Резкое падение производительности в горном деле, в нефтяной промышленности и в металлургии заставили правительство в 1942 году отозвать из армии специалистов металлургов и горняков.
В качестве трудовых резервов была использована женская рабочая сила и подростки. Ни одна из воевавших стран не прибегала к такому огромному вовлечению женщин и детей в производство. Уже в 1942 году женский труд составил 53 % занятых в народном хозяйстве СССР, даже в промышленности количество работающих женщин превышало количество работающих мужчин вместе с подростками. В таких отраслях народного хозяйства, как пищевая промышленность и здравоохранение, женщины составляли свыше 80 % всех занятых в них работников. За период войны только через школы трудовых резервов было передано в народное хозяйство свыше двух миллионов подростков. На заводах тяжёлой промышленности работали подростки и дети 12–14 лет. Ни одна из воюющих стран не была вынуждена прибегать к эксплуатации труда малолетних. Проблему трудовых кадров хуже всех смогли разрешить коммунисты, и это было следствием порочности их социально-экономической системы и большевицкой системы организации.
Задача снабжения фронта целиком была разрешена за счёт снижения уровня материального снабжения населения. Хотя и очень слабое, но всё-таки известное представление об этом дают цифры перераспределения общественного продукта, приводимые Вознесенским. Из них вытекает, что личное потребление уменьшилось в 2,5–3 раза по сравнению с 1940 годом.
В качестве особого достоинства советской экономической системы провозглашалось то, что «советское государство, несмотря на огромные трудности военного времени, строжайше соблюдало сохранение стабильного уровня государственных розничных цен на предметы продовольствия и широкого потребления первой необходимости» (см. «План, хозяйство», 1948, № 1, с. 77).
Удержание пайковых цен на уровне 100,5 % довоенных цен не являлось существенным, так как оплата нормированных продуктов играла очень малую роль в бюджете советского гражданина. Из-за падения нормы снабжения в 2,5–3 раза без частного рынка просуществовать было невозможно. А цены на этом рынке отражали с предельной ясностью продовольственную ситуацию в стране. Сам Вознесенский пишет, что «индекс цен на колхозном рынке в 1943 году по сравнению с уровнем 1940 года увеличился на продукты растениеводства в 12,6 раза и на продукты животноводства – в 13,2 раза». Цена килограмма сахара или мяса поднялась до 300–500 рублей, а килограмма жира – до 750-1 000 рублей, превышая, таким образом, среднемесячную зарплату (573 рубля в 1943 году по официальным данным Госплана).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: