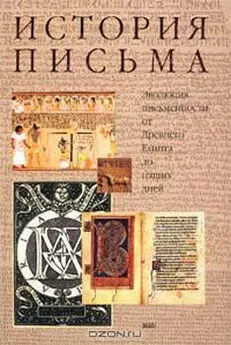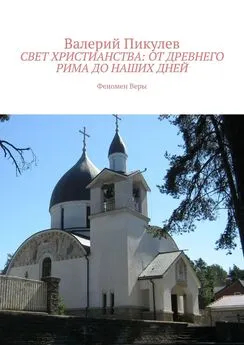Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.
- Название:История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Эксмо»
- Год:2002
- Город:Москва
- ISBN:5-699-00312-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнст Добльхофер - История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. краткое содержание
Эта книга рассказывает о дешифровке забытых письменностей — от Древнего Египта и Шумера до письма этрусков и письменности острова Пасхи. На ее страницах оживают героические усилия гениальных исследователей, заставивших заговорить, казалось, навеки умолкнувшие древние письменные памятники, — начиная с Жана-Франсуа Шампольона и заканчивая Майклом Вентрисом. И каждый шаг дешифровки древних письмен сопровождают уникальные иллюстрации.
Составление Кирилла Королева
Перевод с немецкого Г.М. Бауэра,
И.М. Дунаевской (фрагменты из книги И. Фридриха «Египет и Ближний Восток»).
История письма: Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Итак, дата с обратной стороны таблички была прочитана: b-šdš jm-m b-tmz 1b-šnt 7 , то есть «в шестой день в [месяц] Таммуз в году седьмом».
Можно представить себе, что творилось тогда в душе исследователя! «Самыми прекрасными днями в моей карьере дешифровщика были те, когда я открыл „алфавитный“ финикийский в текстах из Рас-Шамры и „слоговой“ финикийский в псевдоиероглифических надписях из Библа. Но сколько бессонных ночей работы над дешифровкой предшествовало „аллилуйе“ открытия» [19] Письмо автору от 11 марта 1957 года.
.
Потребовалось еще много терпеливой работы и беспрерывных исправлений, прежде чем 2 августа 1946 года Дорм смог доложить о своих результатах французской Академии надписей. В статье «Дешифровка псевдоиероглифических надписей из Библа» он уже предложил убедительные чтения всех надписей, найденных и изданных за год до этого Дюнаном, и представил ученым веские аргументы в пользу правильности своей дешифровки и своего чтения.
Но, между прочим, один убедительный аргумент был заключен уже в самом содержании первой дешифрованной надписи «с» (рис. 139б). В ней речь шла отнюдь не о богах или царях и не о делах войны или мира. Если бы это было именно так, то могло бы возникнуть подозрение, что дешифровщик, прежде чем вычитать из текста подобное содержание, в общем обычное почти для всех надписей, сам невольно «навязал» его этому тексту. Но с надписью, прочитанной Дормом, дела обстояли совсем иначе: она содержала, согласно его толкованию, сообщение древнего резчика о работе, сделанной им и его товарищами для украшения храма. Тема эта была столь неожиданна, что сразу же пресекла возможные упреки дешифровщику в том, что он в данном случае был способен на такое толкование текста, при котором, хотя и bona fide, исследователь читает в тексте то, что ему хочется в нем найти, а совсем не то, что там написано.
Второе решающее доказательство: на основе надписи, вырезанной на первой бронзовой табличке «с», Дорм сразу же смог прочесть другую, намного более длинную надпись на второй большой бронзовой табличке! И она опять-таки содержала подобное сообщение.
В-третьих, в этой последней надписи вдруг оказалось поразительное количество имен египетских богов. Надо полагать, что дешифровщик едва ли думал об этом, когда приступал к работе. Правильность решения, предложенного Дормом, подкрепляется также значительным числом филологических данных и в первую очередь данными грамматики, но на этом мы не будем останавливаться.
Таким образом, мы можем с полным доверием относиться к толкованию этой письменности, данному Эдуардом Дормом. Гублская письменность — еще весьма несовершенное орудие для передачи мыслей. И это легко понять. Изобретатель письма (памятники относятся к 1900–1700 годам до нашей эры), несомненно, имел перед глазами ассиро-вавилонскую клинопись — отсюда и слоговой характер письма; уже довольно рано первоначальные слоговые знаки, в соответствии с особенностью семитских языков, перестали строго различаться и употреблялись часто без разбора, только с учетом содержащихся в них согласных, и эта стадия развития письменности достаточно полно отражена в таблице письменных знаков (рис. 140), в которой приведены многократные варианты согласных.
Мы не раз уже предлагали вниманию читателя примеры из языков и литератур, ставших доступными нам благодаря дешифровке письменности. В одних случаях они раскрывали перед нами образ того или иного народа — носителя языка и создателя письменности, в других — они близки современному читателю в силу непреходящей значимости и общечеловеческого характера содержащихся в них высказываний; немало было и таких случаев, когда оба этих фактора воздействовали одновременно. Мы уже слышали слова правителей и молитвы, мифы о богах и пророчества. Но здесь в качестве представителя древней Гублы будет говорить простой ремесленник, тот самый, который некогда, с удовлетворением осматривая дело своих рук, вырезал сообщение о своей удаче на бронзовой табличке, не подозревая, что почти через четыре тысячи лет ей суждено будет стать ключом к дешифровке этой древнейшей и уже давно исчезнувшей письменности:
«Лилу: медь Топета я раскатал. Острием железа я гравировал их, эти предметы; ключ же от храма [гравировал] Акарену, выгравировал на нем знак и написал имя; и я положил его, этот [ключ], когда корону… алтаря я гравировал. Эту работу, в честь семьи своей сделал ее Лилу… Я сделал это во время правителя Ипуша в шестой день, в [месяц] Таммуз в седьмом году» [20] Для тех читателей, которые ближе знакомы с вопросом, следует заметить, что автор хорошо понимает наличие тесной связи обеих рассмотренных в этой главе новооткрытых письменностей с проблемой синайского письма и проблемой происхождения алфавита вообще. Однако, поскольку рассмотрение последней проблемы выходит за рамки данной книги, а гипотезы, связанные с первой, еще оспариваются, он вынужден не останавливаться здесь на этих вопросах.
.
Дешифровка кипрского слогового письма
О богах и торговцах
Одно из самых блестящих открытий нового времени.
Мориц Шмидт по поводу работы Иоганнеса Брандиса.«А подсчет факелов было делом Зофара… Мегалофея и Филодама, подсчет же собранного посредством добровольных взносов — делом Зофара и Афродисия».
Так сказано в одной посвятительной надписи, найденной на севере Кипра.
Надпись относится к V веку до нашей эры. Очевидно, жители острова занимались подобными скрупулезными подсчетами не только в это время, но и несколько ранее. Впрочем, на основании находок, сделанных на Кипре, известно, что остров был населен уже в III тысячелетии до нашей эры, а во II тысячелетии вел оживленную торговлю с Египтом и Палестиной. Это был «великий центр металлургии Древнего Востока» (Дирингер), желанный оплот Малой Азии и Сирии на Средиземном море, который отделяли от Египта и Крита всего несколько дней пути. Вероятно, на рубеже II и тысячелетий до нашей эры на Кипр пришли греки — дело обошлось без завоевания и бряцания оружием; по-видимому, им удалось расселиться на острове мирным путем, но постепенная ассимиляция догреческого населения привела к вымиранию местного искусства и культуры. Судьба предопределила острову, находящемуся в месте пересечения трех культурных влияний (малоазиатского, сирийско-палестинского и египетского), весьма сложную и запутанную историю. На юге, там, где гористая страна полого спускается к морю, образуя равнины и места, удобные для городских поселений, уже к началу тысячелетия появляются колонии финикийцев. Затем, с конца VIII века, начинается период господства ассирийцев. Кипр видел, как приходили и уходили персы и македонцы, как здесь властвовали римляне, а позднее и византийцы. Среди его правителей мы находим даже Ричарда Львиное Сердце — первого англичанина — повелителя киприотов, распоряжавшегося здесь за целые столетия до того, как в 1878 году его дальние потомки арендовали остров у турок, которым он принадлежал свыше 300 лет. Сначала арендовали — для защиты Суэцкого канала и путей в Индию, а в 1913 году аннексировали окончательно. Однако греки сумели сохранить национальный характер острова. Об этом свидетельствует памятник, сыгравший решающую роль в истории дешифровки кипрского письма. Мы имеем в виду относящуюся к IV веку до нашей эры посвятительную надпись знатного финикийца, жившего во времена, когда его городом правил царь-финикиец. Она составлена как на финикийском, так и на греческом языке (греческая версия изложена кипрским слоговым письмом) и стала, следовательно, той самой вожделенной билингвой, ключом к дешифровке письменности.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: