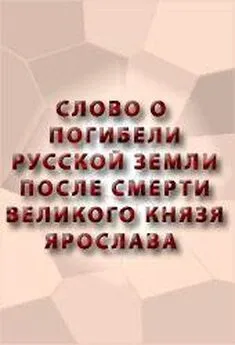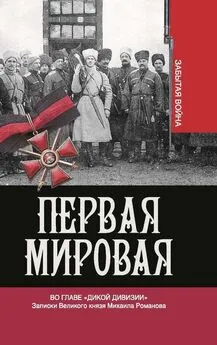Владимир Антонович - Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда
- Название:Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1878
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Антонович - Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда краткое содержание
Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Современник и тесть Владимира Васильковича был брянский князь — Роман Михайлович, с которым воевал великий князь литовский Мендовг еще в 1264 году. Он упоминается в летописях последний раз по поводу набега на Смоленск в 1285 году. В Брянске же в начале XIV столетия шел спор за княжеский стол (1309 — 1310) между Святославом Глебовичем и его племянником — Василием Александровичем; последний, при помощи татар, победил дядю и скончался на брянском княжении в 1314 году. Преемник его был Глеб Святославич, убитый во время мятежа в Брянске в 1339 году: Таким образом, имя Романа брянского является совершенным анахронизмом во время Гедымина. Этот князь, Роман, назван притом в летописи Быховца зятем князя Льва луцкого; если под именем Льва разумеется Лев Юриевич, княживший в 1316 — 1324 годах, то, конечно, родство его с Романом брянским составляет совершенный вымысел, равно как и смерть князя Льва в мнимой битве на р. Ирпени: из упомянутого выше письма польского короля Владислава к папе мы знаем, что Лев и Андрей Юриевичи скончались (decesserunt ex hac luce) в 1324 году. Князь Олег переяславский — личность совершенно фиктивная; после разорения Переяславского княжества Батыем оно перестало существовать, и русские летописи не упоминают вовсе о переяславских князьях. Составитель летописи Быховца, предположив переяславского князя, заимствовал для него, вероятно, имя сына Романа брянского — Олега, упоминаемого Ипатьевской летописью под 1274 годом, по поводу посещения им во Владимире-Волынском его шурина Владимира Васильковича. Плодом такого же вымысла является князь Станислав киевский; выше было указано, что последний киевский князь (1331 — 1362) носил; имя Федора. Назвав вместо него Станислава, летопись Быховца утверждает, будто, после завоевания Киева Гедымином, князь этот нашел приют у рязанского князя Ивана, на дочери которого женился и, после его смерти, за неимением сыновей, наследовал Рязанское княжество. Действительно, с 1308 по 1327 год в Рязани княжил Иван Александрович, но, после убиения его в орде, ему наследовал его сын — Иван, по прозванию Коротопол (1327 — 1343); о предполагаемом же зяте рязанского князя Ивана — Станиславе киевском, русские летописи ничего не знают. Относительно Мендовга Альгимунтовича Гольшанского, которому Гедымин поручил будто управление Киевской областью, нетрудно указать хронологическую ошибку летописи Быховца. Действительно, первый правитель Киева после литовского завоевания, не принадлежавший к роду Гедымина был Иоанн (может быть, в язычестве и носивший имя Мендовга) Альгимунтович, князь Гольшанский. Князь этот занимал видное место среди литовских сановников конца XIV столетия: ему поручено было провожать в Москву Софию Витовтовну, невесту великого князя Василия Дмитриевича, и затем, после смерти Скиргайла в 1396 году, Витовт дал ему в управление Киевскую область; он принимал участие в битве с татарами у р. Ворсклы (1399) и потом известен нам по записи на верность, выданной им Ягайлу в 1402 году. Таким образом, в рассказе о завоевании Киева князь Гольшанский передвинут из начала XIII века почти на целое столетие назад, и является здесь современником лиц, живших еще во второй половине XIII века.
Не меньшее смещение господствует в летописи Быховца и относительно данных топографических: города Киевской области названы в рассказе этой летописи сообразно с их позднейшим значением в Великом княжестве Литовском; за исключением Белгорода и Вышгорода, заимствованных из старых русских летописей, названы те города, в которых существовали «господарские замки» и которые служили центрами управления «поветов» только со времени Витовта: Житомир. Овруч, Черкассы, Канев, Переяславль; сверх того, прибавлены еще: в летописи Быховца — Путивль, и у Стрыйковского — Брянск — очевидно, по незнанию составителями рассказа территориальных отношений южнорусских земель; города эти никогда не были киевскими пригородами, находились в земле Северской и заняты были Литвой только при Ольгерде в 1356 году. Значение Вышгорода и Белгорода [40], как киевских пригородов в XIV столетии, также подлежит большому сомнению: города эти имели большое значение в прошедшем Руси: вначале, как самостоятельные земские центры, подобно Киеву сосредоточивавшие в себе общинную жизнь окружавшей их территории; потом, со времени Владимира св. — как важнейшие киевские пригороды и сильные крепости, оберегавшие, в ряду других, центральный город; наконец, в XII столетии, как удельные второстепенные столы, обыкновенно предоставляемые киевскими князьями тем родственникам, на помощь которых они более всего могли опираться. Но в половине XIII столетия, после упадка самого Киева, упало и значение его пригородов; русские летописи последний раз упоминают о Вышгороде в 1214 и о Белгороде в 1231 году [41]. Впоследствии, при литовском господстве, мы встречаем названия этих поселений только в качестве сельских общин. Из числа остальных городов, упоминаемых в рассказе, один — Снепород — никогда не существовал, другой — Черкассы — еще не существовал в описываемое время; помещение этих городов в числе киевских пригородов начала XIV столетия является в летописи Быховца как результат неточной передачи и без того неясного и сбивчивого предания об основании города Черкасс, существовавшего у приднепровского населения в половине XV столетия, т. е. в то именно время, когда редажировалась летопись Быховца. В 1545 году жители Канева заявили чиновникам, описывавшим украинные замки, следующее предание: «От початку Черкасов и Канева, уходы по всим тым рекам вольны были каневцом, бо яко князь великий литовский Гедымин, завоевавши над морем Кафу, и весь Перекоп, и Черкасы Пятигорские; и приведши Черкасов часть с княгинею их, посадил их на Снепороде [42], а инших на Днепре, где теперь черкасы сидят; а снепородцев посадил на Днепре ж, у Каневе; и сидячи снепородце на Днепре у Каневе, предся отчизны свои по речкам иным Сивирским уходити не перестали».
В этом предании народная память, на расстоянии двух столетий, заместила имя Витовта именем Гедымина, никогда не предпринимавшего походов в Крым и к подножью Кавказа; но если бы даже принять это предание буквально, то, во всяком случае, оно приписывает самому Гедымину основание города Черкасс и колоний на р. Снепороде и, следовательно, исключает возможность их существования во время мнимого завоевания Гедымином Киевской области. Очевидно, составитель летописи Быховца слышал поднепровское предание, но воспользовался им для своего рассказа в извращенном виде.
Наконец, самые события в повествовании летописи Быховца насильственно сведены летописцем в одну картину; мы имеем основание полагать, что весь рассказ составлен из двух преданий, относившихся к двум отдельным событиям, случившимся разновременно: о второй половине рассказа, т. е. о весеннем походе на Киев, мы имеем довольно точные указания. В древнейшей литовской летописи под 1392 годом мы находим следующий рассказ о походе Витовта на Киев с целью сместить князя Владимира Ольгердовича и предоставить Киевское княжение его брату Скиргайлу: «На весну князь великий Витовт иде и взя землю Подольскую, а князю Володимиру Ольгердовичю, тогда бывши в Киеве, и не всхоте покоры учинити и чолом ударити великому князю Витовту. Той же весны князь великий Витовт пойде и взя град Житомир и Вручий и приеха к нему князь Володимер. Тогож лета на осень князь великий Витовт выведе его из Киева и дасть ему Копыл, а на Киеве посади князя Скиргайла, сам же князь великий Витовт пойде на Подольскую землю. А князю Скиргайлу повеле идти из Киева ку Черкасом и ку Звенигороду. Князь же Скиргайло, Божиею помощью, великого князя Витовта повелением, взя Черкасы и Звенигород и возвратися паки ко Киеву». Составитель летописи Быховца, пользовавшийся древнейшей литовской летописью, внес вышеприведенный рассказ в свою хронику под 1392 годом, но, не ограничившись этим, он, по свойственному себе приему, переменив имена действующих лиц и прибавив несколько вымышленных подробностей, поместил его вторично в дополнение к походу Гедымина на Волынь [43].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: