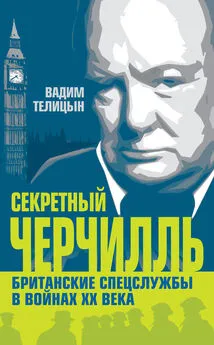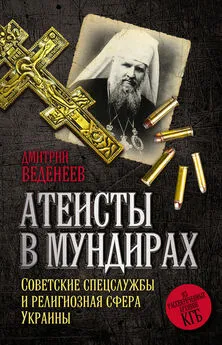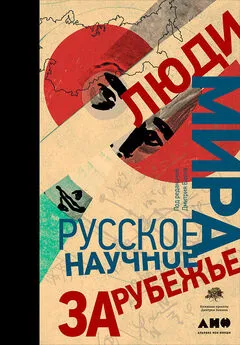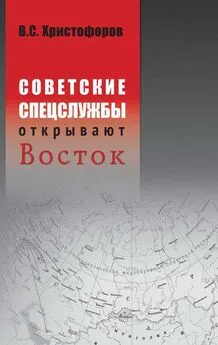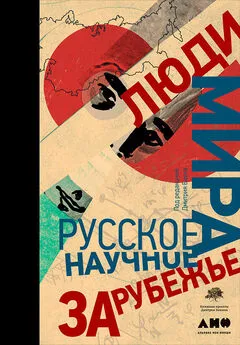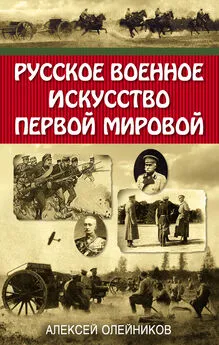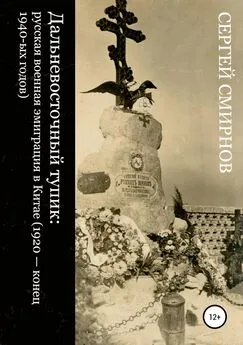Владислав Голдин - Генералов похищали в Париже. Русское военное Зарубежье и советские спецслужбы в 30-е годы XX века
- Название:Генералов похищали в Париже. Русское военное Зарубежье и советские спецслужбы в 30-е годы XX века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:РИСИ
- Год:2016
- Город:М.
- ISBN:978-5-7893-0241-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владислав Голдин - Генералов похищали в Париже. Русское военное Зарубежье и советские спецслужбы в 30-е годы XX века краткое содержание
Издание снабжено документальными приложениями. Предназначено для специалистов, преподавателей вузов и научных работников, аспирантов и студентов, всех интересующихся проблемами отечественной и всемирной истории, Русского Зарубежья, международных отношений и истории спецслужб.
Генералов похищали в Париже. Русское военное Зарубежье и советские спецслужбы в 30-е годы XX века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иные процессы происходили в СССР. Как ни парадоксально, но политика «большого террора» 1937–1938 годов в Советском Союзе не только осуществлялась усилиями кажущегося всемогущим НКВД, но в результате ее пострадали и многие сотрудники этого ведомства. Службы разведки и контрразведки формировались фактически заново. К тому же в условиях приближения и начала Второй мировой войны перед ними ставились новые задачи.
Советские секретные службы: чистки, репрессии, реорганизации
Чистка страны, выявление и уничтожение «врагов народа», развернутые во второй половине 30-х годов под непосредственным руководством наркома внутренних дел Н.И. Ежова, не обошли стороной и самого аппарата этого ведомства. По собственному признанию наркома, он «почистил, но недостаточно», 14 тысяч сотрудников НКВД СССР. Что касается собственно чекистов, то с 1 октября 1936 года по 1 января 1938 года из органов госбезопасности было уволено 5229 оперативных сотрудников, из них 1220 человек было арестовано, в т.ч. 884 по обвинению в контрреволюционной деятельности {857} .
В этот период были репрессированы, как правило, расстреляны, почти все прежние руководители ВЧК—ОПТУ—НКВД, органов разведки и контрразведки, включая предшественника Ежова на посту наркома внутренних дел Г.Г. Ягоду и его сподвижников. Среди них были и люди, уже не работавшие в системе НКВД: Я.Х. Давтян, М.А. Трилиссер, С.А. Мессинг, Я.К. Ольский и др. Относительно повезло лишь Р.П. Катаняну, руководившему Иностранным отделом в 1921 году. Будучи арестован в 1938 году, он находился в заключении, а затем в ссылке по 1950 год, и был реабилитирован в 1955 году. Характеризуя итоги деятельности Н.И. Ежова на посту руководителя НКВД СССР, один из видных советских деятелей той поры, А.И. Микоян в докладе на торжественном заседании в 1937 году, посвященном 20-летию ВЧК — ОГПУ — НКВД, отметил: «Ежов создал в НКВД замечательный костяк чекистов, советских развед чиков, изгнав чуждых людей, проникших в НКВД и тормозивших его работу» {858} . Эти удивительные и глубоко парадоксальные слова относились к человеку, который в действительности разрушал, а не созидал, и через год с липшим после ареста и расстрела Ежова в его адрес будет звучать уже совершенно другое.
Только в Иностранном отделе (включая заграничный аппарат) в 1937–1938 годах из 450 сотрудников было репрессировано 275 человек. В результате аппарат Иностранного отдела был фактически парализован, и в течение 127 дней подряд в 1938 году оттуда руководству страны не поступало информации {859} . Иными словами, внешняя разведка была дезорганизована и во многом недееспособна. И дело не только в потере опытных кадров, но и в том, что оставшиеся в живых часто уже не смели проявлять инициативы, рисковать, проводить смелые комбинации, боясь подставить себя, своих сотрудников и близких им людей.
После ареста руководителя Специальной группы особого назначения Я.И. Серебрянского была фактически дезорганизована ее деятельность, а многие сотрудники также арестованы. При расследовании деятельности Серебрянского и его группы особое внимание привлек так называемый «еврейский вопрос». Дело в том, что из более чем двухсот агентов СГОН значительную часть составляли евреи. И Берия, перетряхивавший после прихода к руководству НКВД кадры этого ведомства и разведки, в частности заявил в беседе со своим протеже и новым начальником 5-го (Иностранного) отдела ГУГБ В.Г. Деканозовым: «Серебрянский устроил на казенное жалование еврейскую родню, которая оказалась ни к чему не годной, и теперь должен понести за это ответственность» {860} .
В результате смены кадров в резидентурах утрачивались связи с многими ценными агентами и источниками за рубежом, в том числе среди эмигрантов, которые далеко не всегда в дальнейшем вновь шли на сотрудничество с советской разведкой. Имели место и иные печальные явления. Так, например, уже называвшийся ранее офицер-эмигрант Осипов, работавший на советскую разведку с 1928 года и служивший в особом отделе японской полиции в Маньчжурии, зарекомендовал себя как очень ценный агент. Резидентура сообщала в 1938 году, что «вся сеть японских агентов в настоящее время подчинена Осипову. Таким образом, через нас проходят все сводки агентов… и мы в курсе всей работы полковника Сасо по белоэмигрантам, советским гражданам и иностранцам». Но в том же году резидентура по указанию Центра прекратила связь с Осиповым, т.к. на него пало подозрение как на лицо, завербованное репрессированным в 1938 году разведчиком {861} .
Развернувшаяся в 30-е годы чистка советских спецслужб и репрессии в отношении ее сотрудников, масштабы которых являются сегодня предметом дискуссии [55], вызывали разную реакцию в СССР и за рубежом, а в дальнейшем в исследовательской литературе. Сотрудниками советских, а часто и современных российских спецслужб это воспринималось и воспринимается чаще всего как драма и трагедия. Они и авторы, симпатизирующие СССР и деятельности его спецслужб, высказывали сожаление или возмущение, именовали происходившее «огнем по своим», объясняя это термидором, сталинской паранойей и т.п. Эмигрантские авторы, в свою очередь, в том числе видные деятели российской военной эмиграции, нередко удивляясь происходящему в СССР, чаще всего не скрывали своего удовлетворения террором в отношении видных деятелей революции, разгромом спецслужб, репрессиями в отношении их сотрудников, с которыми у них были свои счеты. Они полагали, что «мясников постигает участь их жертв». Напомним, что генерал А. А. Лампе писал в связи с этим из Берлина в Париж генералу П.А. Кусонскому: «Взаимные угробливания и казни в своей среде есть нормальный конец всякой революции. Пусть Сталин проведет черную работу как можно дальше…» {862} .
Печальным явлением для советских спецслужб было невозвращенчество ряда их сотрудников, в том числе опытных и высокопоставленных, которые, опасаясь ареста и расправы в Москве, в поисках убежища вынуждены были в той или иной мере сотрудничать и делиться известными им секретами со спецслужбами противника. Напомним в связи с этим наиболее громкие имена лиц, уже звучавшие в этой книге, — А.М. Орлов и В.Г. Кривицкий.
Еще более трагическими последствиями для советских спецслужб обернулось бегство 13 июня 1938 года в оккупированную японцами Маньчжурию начальника управления НКВД по Дальневосточному краю комиссара госбезопасности 3-го ранга Г.С. Люшкова, который сам до этого руководил террором на Дальнем Востоке. На январском (1938 года) совещании в НКВД Ежов даже ставил его в пример другим чекистам, ибо по числу репрессированных «врагов народа» Люшков достиг самого высокого показателя по стране — 70 тысяч человек {863} . По одним данным, бегство Люшкова произошло после его вызова в Москву (что он воспринял как неминуемый арест), по другим сведениям, его уведомили о предстоящей сдаче должности начальника управления, а это также могло грозить концом карьеры и арестом {864} .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: