Коллектив авторов - Война во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917–1923
- Название:Война во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917–1923
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2014
- Город:М.
- ISBN:978-5-4448-0184-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Война во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917–1923 краткое содержание
Война во время мира: Военизированные конфликты после Первой мировой войны. 1917–1923 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Мотивацией для этой воинствующей молодежи, которая в других обстоятельствах, скорее всего, вела бы «нормальную» мирную жизнь, в первую очередь служило яростное нежелание смириться с неожиданным поражением и революционными волнениями, а также решительное стремление испытать себя на поле боя. Так, австрийские и венгерские кадеты, ментально и физически подготовленные к героической смерти на фронте, после неожиданного завершения войны в 1918 году остро ощущали себя жертвами предательства. Вступая в военизированные отряды, в которых преобладали бывшие офицеры штурмовых частей, эти юноши спешили доказать, что достойны находиться в сообществе бойцов, отмеченных многими боевыми наградами, и «героев войны» — в сообществе, дававшем им шанс сделать явью подростковые фантазии о сражениях и подвигах и соответствовать идеализированному образу воинственного мужества, растиражированному военной пропагандой {147} 147 Gerwarth R. The Central European Counter-Revolution. P. 175 ff.
.
Однако романтические фантазии о воинской славе были не единственной причиной для вступления в военизированные формирования. Многих безземельных батраков — особенно в Венгрии и на неспокойной германской границе — привлекала возможность грабить, мародерствовать, насильничать, вымогать деньги или просто сводить счеты с соседями другой национальности, не опасаясь репрессий со стороны государства. Кроме того, местные военизированные группировки нередко создавались скорее из страха перед демобилизованными и обнищавшими солдатами, нежели с какой-либо четкой политической целью {148} 148 Bodo В. Militia Violence and State Power in Hungary, 1919–1922 // Hungarian Studies Review. 2006. Vol. 33. P. 121–167, особенно p. 131–132; Ziemann B. War Experiences. P. 227 ff.
.
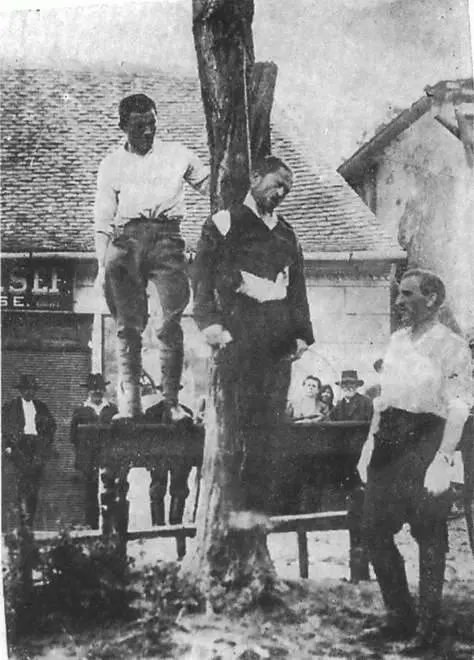
Ветераны и представители «молодого военного поколения» объединенными усилиями создали взрывоопасную субкультуру ультравоинственной мужественности, в рамках которой насилие воспринималось не только как политически необходимый акт самообороны, без которого не подавить коммунистические восстания в Центральной Европе, но и как позитивная ценность сама по себе, как морально оправданное выражение юношеской возмужалости, отличавшей активистов военизированных группировок от «безразличного» большинства буржуазного общества, неспособного сплотиться перед лицом революции и гибели. Вступившие в милицию находили здесь, в противоположность царившему вокруг беспорядку, четкую иерархическую структуру и знакомое ощущение цели и принадлежности. Военизированные группировки представлялись их активистам бастионами солдатского товарищества и «порядка» среди враждебного мира демократического эгалитаризма и коммунистического интернационализма. Именно этот дух непокорности в сочетании с желанием быть частью послевоенного проекта, который бы наделил смыслом оказавшийся бесполезным опыт массовой гибели во время Первой мировой войны, девальвированный поражением, и скреплял эти группировки. Их члены считали себя ядром «нового общества» воителей, представлявшего как вечные ценности нации, так и новые авторитарные концепции государства, в котором эта нация могла бы процветать {149} 149 Reulecke J. «Ich möchte einer werden so wie die…»: Männerbünde im 20. Jahrhundert. Frankfurt a.M., 2001. S. 89 ff.
.
Склонность военизированных группировок к необузданному насилию в отношении врагов дополнительно усугублялась страхом перед мировой революцией и сообщениями (порой правдивыми, порой преувеличенными либо вымышленными) о зверствах, совершенных коммунистами как внутри соответствующих национальных общин, так и за их пределами. Хотя реальное число жертв «красного террора» 1919 года было относительно небольшим, описания массовых убийств, изнасилований, расчленения трупов и кастрации узников, совершавшихся революционными «варварами» в России и Центральной Европе, занимали весьма заметное место в консервативных газетах и автобиографиях участников военизированных организаций, будучи призваны оправдать применение насилия против внутренних и внешних врагов, объявленных нелюдями и обвинявшихся в проведении политики тотального уничтожения {150} 150 См., например: Revolution überall // Innsbrucker Nachrichten. 1918. 12. Nov. S. 2; Bestialische Ermordung von Geiseln // Ibid. 1919. 3. Mai. S. 2 (о баварских коммунистах).
.
Проявления насилия
Реальный уровень физического насилия в трех побежденных государствах Центральной Европы заметно различался. Ситуация в послереволюционных Германии и Венгрии была намного более экстремальной, чем в Австрии. В таких революционных горячих точках, как Мюнхен, Берлин и промышленные регионы в долинах рек Рур и Заале, жертвами кровавых столкновений между левыми и правыми становились тысячи человек. В одной Венгрии в 1919–1920 годах погибло от 1500 до 4 тысяч человек. Напротив, подавляющее большинство из 859 политических убийств, совершенных в межвоенной Австрии, произошло в начале 1930-х годов, а не в период непосредственно после 1918 года {151} 151 Точное число жертв послевоенного военизированного насилия до сих пор является спорным вопросом. О Германии и ее приграничных регионах см.: Schultze Н. Freikorps und Republik, 1918–1920. Boppard, 1968; Sauer В. Vom «Mythos des ewigen Soldatentum»: der Feldzug deutscher Soldaten im Baltikum im Jahre 1919 // ZfG. Bd. 43. 1993; Wilson T. Frontiers of Violence. Что касается Венгрии, то, по оценкам Оскара Йаси, в 1918 году входившего в правительство Карольи, контрреволюционерами было убито не менее 4 тысяч человек, но в недавних исследованиях эта цифра была сокращена до 1500 человек. См.: Jâszi О. Revolution and Counter-Revolution in Hungary. London, 1924. R 120; Bodo B. Paramilitary Violence in Hungary after the First World War // East European Quarterly. 2004. Vol. 38. P. 129–172, cm. p. 167. Согласно подсчетам Герхарда Ботца для Австрии, жертвами политического насилия в годы первой Австрийской республики (12 ноября 1918 — // февраля 1934 года) пало всего 859 человек, однако в эту цифру не включены жертвы убийств, совершенных многочисленными австрийскими волонтерами, сражавшимися в рядах германского фрайкора (Botz G. Gewalt in der Politik. S. 237).
.
Чтобы понять, чем было вызвано относительное миролюбие австрийских правых в ближайшие годы после окончания войны, необходимо принять во внимание два момента {152} 152 О нетипичности Австрийской революции см.: Boyer J.W. Silent War and Bitter Peace: The Revolution of 1918 in Austria // Austrian History Yearbook. 2003. Vol. 34. P. 1–56.
. Во-первых, явно ограниченная активность австрийских правых (по сравнению с ситуацией в Венгрии и восточнее) в значительной степени объяснялась существованием сильных военизированных левых группировок, наиболее заметными из которых были фольксвер и социалистическая гвардия шуцбунд {153} 153 См. об этом в первую очередь на примере Тироля: Schober R. Die paramilitärischen Verbände in Tirol 1918–1927 // Albrich Th. et. al. (Hrsg.). Tirol und der Anschluß: Voraussetzungen, Entwicklungen, Rahmenbedingungen 1918–1938. Innsbruck, 1988. S. 113–141.
. Например, в Тироле 12 тысячам хеймверовцев, из которых вооружены были две трети, в 1922 году противостояло примерно 7500 членов шуцбунда {154} 154 Lösch V. Die Geschichte der Tiroler Heimatwehr von ihren Anfängen bis zum Korneuburger Eid (1920–1930): Diss. Innsbruck, 1986. S. 162.
. В ситуации взаимного противостояния самоограничение во многих отношениях представляло собой стратегию выживания, поскольку победа в потенциальной гражданской войне была отнюдь не гарантирована {155} 155 Botz G. Handlungsspielräume der Sozialdemokratie während der «Österreichischen Revolution» // Altmüller R. et. al. (Hrsg.). Festschrift Mélanges Felix Kreissler. Wien, 1985. S. 16.
. Поэтому в течение 1920-х годов активность обеих сторон главным образом сводилась к символической демонстрации своей силы — например, в ходе по большей части мирных шествий хеймвера и шуцбунда по «вражеской территории» {156} 156 Cm.: Krauss A. Revolution 1918 (Kriegsarchiv [Wien]. В 60, 5e, 1: Krauss).
.
Интервал:
Закладка:






![Коллектив авторов - Закат империи США: Кризисы и конфликты [Сборник]](/books/1074740/kollektiv-avtorov-zakat-imperii-ssha-krizisy-i-kon.webp)


