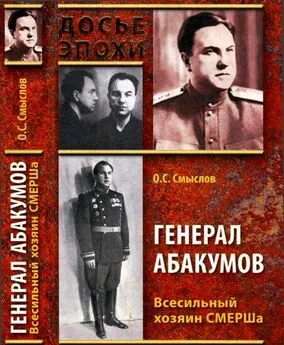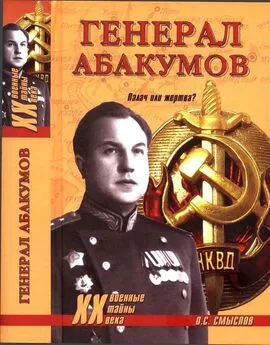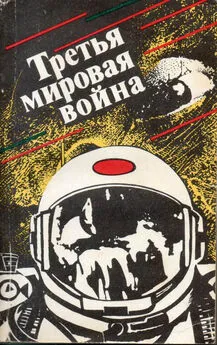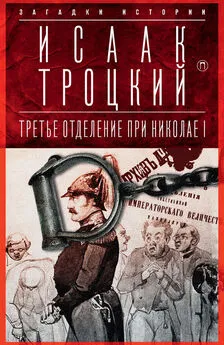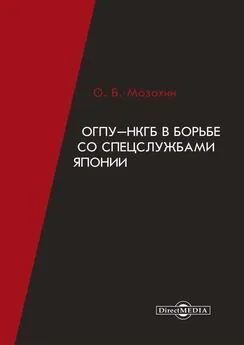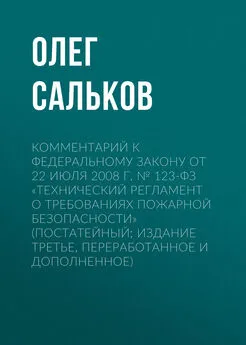Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]
- Название:Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-07747-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] краткое содержание
В книге использованы материалы, подготовленные в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 16–41–93553.
Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Рассматривая документы архива Третьего отделения, можно обнаружить, что достаточно часто участниками семейных конфликтов становилась прислуга, проживавшая в доме и имевшая возможность для постоянного общения, реализации своих матримониальных планов или хотя бы повышения социального статуса и улучшения материального положения.
Так, некая М. Аладова в апреле 1861 г. жаловалась шефу жандармов на свою тяжелую жизнь. Она сообщала, что восемнадцатилетней девушкой вышла замуж за глухонемого дворянина, «движимая полнотою благородных чувств, не слушая убеждения моих родных, смело шла на самопожертвование, поэтически смотря на мою роль, но чрез два месяца я уже предвидела мое несчастье и 20 лет переносила тиранство моего мужа» [494].
По ее словам: «Муж заставлял присутствовать при рождении, крещении и погребении незаконных детей его, болезнях любимой им женщины, моей кухарки», а когда она осмеливалась не пойти, то муж приходил к ней ночью с пистолетами («не знаю заряженными ли?»). Женщина подчеркивала, что готова была и дальше сносить такую жизнь («кого Господь соединил, человек не разлучает»), но теперь муж собрался продать дом, чтобы жить с этой женщиной, а ей надо было «искать казенного места» [495].
Обращение Аладовой в Третье отделение было связано с тем, что она не желала «формального производства по жалобе своей на мужа», а потому шеф жандармов князь В. А. Долгоруков распорядился поручить начальнику первого округа корпуса жандармов «попытаться привести настоящее дело к миролюбному окончанию» [496]. Жандармское следствие выяснило, что действительно «муж Аладовой до настоящего времени имеет любовную связь со своею кухаркою, с которой прижил детей», но было также установлено, «что сама Аладова была в такой же связи с несколькими лицами», кроме того, «муж давал ей достаточное содержание, заплатив некоторые ее долги, и поручился за нее в платеже 10 тыс. руб.» [497].
По признанию начальника округа генерала И. В. Анненкова, его удивила сама Аладова «несвязанностью слов и странностию мыслей» [498]. У нее действительно было обнаружено «помешательство ума», и она была помещена в лечебное заведение. Аладов согласился на предоставление ей вида на жительство на 3 года, а после продажи дома его жене была выделена причитавшаяся седьмая часть. Оставшиеся после уплаты долгов деньги были помещены на хранение в государственный банк. Правда, они скоро пригодились для последующего лечения, так как Аладова продолжала слать письма в тайную полицию, объясняясь в любви к вел. кн. Константину Николаевичу, воображая себя то незаконною дочерью Александра I, то «Мариею Равноапостольною и спасительницей мира» [499].
В зажиточных семьях среди слуг особую роль играли учителя и гувернеры. Приглашенные для воспитания и обучения детей, они являлись носителями специальных знаний и навыков, кроме того, зачастую демонстрировали иной, отличный от привычно обывательского, стиль жизни, манеры, а потому становились предметом особого эмоционального внимания.
Именно из-за гувернера произошли «семейные несогласия и раздоры» в семье помещика Ф. Энгельгардта. Как видно из материалов дела Третьего отделения: «По просьбе помещика Федора Энгельгардта, жалующегося на жену свою и некоего Дубова, по проискам коего он выгнан женою из имения ее», — конфликт вспыхнул в 1849 г. Причем, как писал министр внутренних дел Л. А. Перовский шефу жандармов А. Ф. Орлову: «Муж подозревал жену в непозволительной связи с гувернером детей их Дубовым, жена обвиняла мужа в покушении на жизнь ее и растлении им несовершеннолетней родной дочери их» [500]. Следствие по данному происшествию вел санкт-петербургский генерал-губернатор.
«Формальным исследованием и частными разысканиями» было установлено, что «помещица Энгельгардт действительно имела весьма сомнительные отношения к чиновнику Дубову». Обращало на себя внимание то обстоятельство, что в ответ на требование мужа удалить гувернера помещица предпочла расстаться с мужем, а Дубову дала «полную доверенность на управление имением ее». Когда же «по распоряжению начальства» Дубов все же был выслан в Лугу, то помещица Энгельгардт «имела неоднократные с ним тайные свидания» [501].
В отношении главы семейства было выяснено, что «он человек вспыльчивого и строптивого характера и развратного поведения» [502]. Относительно же обвинения в растлении дочери и «в продолжении преступной связи с нею» «не найдено никаких доказательств, ни даже правдоподобия». Следствие установило, что это обвинение было «возбужденно одною крепостною женщиною», а затем поддержано самой Энгельгардт, которая «домашним образом» добилась от дочери признания, а потом распорядилась провести освидетельствование девочки повивальной бабкою, по заключению которой дочь была «признана якобы действительно лишенной девства» [503]. Видимо, таким страшным обвинением помещица решила раз и навсегда расстаться со своим мужем: его суровое наказание обеспечило бы возможность получения развода.
Ф. Энгельгардт решительно отвергал все измышления. Изменила свои показания и дочь. Как гласят официальные документы: «Равно отреклась от сознания своего и дочь, которая при тщательных расспросах следователей явно обнаружила, что она вовсе не имеет понятия о совокуплении мужчины с женщиной; считала же себя, по собственному ее ответу, лишенною невинности, потому только, что об этом говорила ей свидетельствовавшая ее повивальная бабка, и что отец дозволял себе иногда слишком неприличное с нею обращение» [504]. Характер «неприличного обращения» виден из донесения жандармского полковника Станкевича, участвовавшего в следственных действиях: «Отец ее давал ей в руки держать то, что она стыдится назвать (детородный уд)», и продолжалось это аморальное действо около полугода [505].
Надо сказать, что представители власти постарались сделать все для сохранения семейной тайны. По высочайшему повелению было предписано: «Девицу Веру Энгельгардт от медицинского освидетельствования освободить, а делопроизводство во избежание дальнейшего соблазна оставить без дальнейших преследований». Родители, оказавшиеся «оба развратного поведения», высланы: отец — в Олонец, мать — заключена в монастырь. Имение передано в опеку, сын Валерий помещен в одно из казенных заведений, а дочери были «вверены попечению губернского предводителя дворянства» [506]. Дубова решено было выслать на жительство в одну из отдаленных губерний.
Однако история эта, из-за своей необычности и исключительности, получила огласку. В дневнике Л. В. Дубельта встречаем: «[1853 г.] Декабрь 15. приказано произвести следствие о семейных раздорах графа Салтыкова. Жена его написала безыменные письма, что он влюбился и хочет соблазнить свою старшую дочь, а он показывает, что помещик Федор Энгельгардт уже соблазнил и жену, и дочь его. Срам!» [507]Обвинение в подобных преступных помыслах, несомненно, могло сразу дискредитировать подозреваемого в глазах общества и обеспечивало пристальное внимание властей к нравственному облику потенциального насильника, видимо, поэтому графиня и прибегла к такому способу огласки семейных неурядиц. Граф Л. Г. Салтыков, в свою очередь, разглашая семейную тайну, обращал внимание на аморальный поступок родственника своей супруги.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Олег Абакумов - Третье отделение на страже нравственности и благочиния [Жандармы в борьбе со взятками и пороком, 1826–1866 гг.]](/books/1097977/oleg-abakumov-trete-otdelenie-na-strazhe-nravstven.webp)